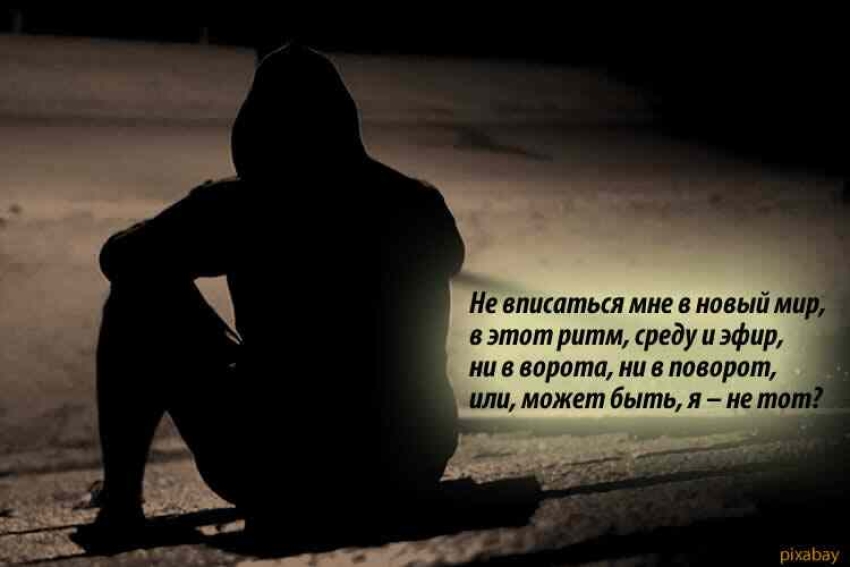Приходя с работы, Ира сразу же пытается открыть форточку, поймать струю свежего воздуха. Но тут же слышит недовольное:
- Ты что, хочешь, чтобы я простудилась и валялась тут с воспалением легких?
- Мам, ну я только на минутку открою окно, ты же под одеялом. Вообще если у тебя повышенное давление, нужно чаще проветривать.
- Ну конечно – ты всё за всех знаешь! Самая умная нашлась. Я сама буду решать, что мне нужно.
К Ире подкрадывается раздражение:
- Я, между прочим, тоже живой человек. И это тоже мой дом. У меня голова в этой духотище раскалывается.
- Ну извини, что я ещё не умерла. Как бы ты порадовалась! Квартирку бы всю заполучила. Но это, милая моя, только Господь Бог решает – кому сколько отпущено.
Ире часто снится один и тот же сон: школьный двор, залитый майским солнцем, большая перемена. Скоро последний звонок. Ира выбегает в школьный сад – белый фартук осыпан яблоневыми лепестками. Мальчик из параллельного класса, в которого Ира уже давно безрассудно влюблена, идёт ей навстречу. Его улыбка – и есть источник солнечной радости. Он и она одни в яблоневом саду, в счастливой первозданности бытия, в сладостной муке любовной неразрешимости – непроизносимости слов.
Нежную акварель сна нарушает недовольный голос:
- Ира, ну сколько ещё мне ждать? Можно матери стакан чаю принести? И ноги уже давно пора перебинтовать.
Ира встает, надевает халат, включает электрический чайник. В ванной торопливо отводит взгляд от своего отражения в зеркале – под глазами тёмные круги, кожа нездорового оттенка, в волосах всё заметнее седина. Нет ни сил, ни желания, ни средств заниматься собой. Не ради чего, не ради кого.
Ещё, казалось, совсем недавно была потребность выходить в люди, красиво одеваться. Ещё, казалось, вчера овладевала ею иллюзия – сколь возрождающая, столь и безнадежная – встретить мужчину своей мечты, спрятаться в маленьком уютном семейном мирке от равнодушия окружающего мира.
Но и эта иллюзия погасла, как последний уголёк в стремительно отгоревшем костре молодости. Вдохновенная первозданность жизни обернулась пеплом бессодержательно истёкших лет, радость цветущих яблонь – белизной нежеланной седины. Предвкушение счастья – оскоминой разочарования.
У Иры не осталось подруг – у всех семьи, дети, хлопоты-заботы. Сразу после работы – многочасовой вереницы цифр перед глазами – Ира спешит домой. Матери надо приготовить еду и дать лекарство, обработать трофические язвы на ногах, сделать перевязку. Если остаётся час-другой перед сном, Ира читает или смотрит телевизор, ходит лабиринтами чужих жизненных сюжетов. Своих у неё давно уже нет. Есть лишь одно необъятное лобное место дочернего долга, куда Ира ежедневно восходит с покорностью и отчаяньем, не в силах убежать и не в силах оставаться.
Комната матери напоминает экзотическую свалку. Подоконник, письменный стол и стулья завалены книгами, старыми газетами, листками отрывных календарей, открытками, фотографиями, пустыми пузырьками из-под лекарств. Любая Ирина попытка навести порядок и выбросить ненужные вещи вызывает у матери сопротивление:
- Не смей здесь распоряжаться. Я ещё пока не умерла.
- Ну зачем тебе пустая коробка из-под конфет?
- Не твоё дело – может, ещё пригодится.
- Давай я постельное бельё тебе поменяю.
- Не надо, я пока мыться не собираюсь. Мне что грязной головой на чистую наволочку
ложиться?
- Так давай я тебе сегодня помогу помыться.
- Нет, только не сегодня. Я плохо себя чувствую.
- Ты никогда не можешь!
- Да, не могу. Ты забываешь, сколько мне лет. Дай Бог тебе не дожить до такого возраста.
На тумбочке рядом с изголовьем возвышается святая святых – большая деревянная шкатулка с документами. По сотне раз на день мать проверяет, не исчез ли из шкатулки паспорт, сберегательная книжка, пенсионное удостоверение, документы на квартиру. Здесь же тетради, в которых, не полагаясь более на свою память, она записывает всё подряд: какое сегодня число, сколько денег потрачено на продукты, какие лекарства нужно принимать, в какое время должна вернуться с работы Ира, номер её мобильного телефона.
Если Ира где-то задерживается, мать звонит ей каждые пятнадцать минут и упрекает, что Ира оставила её одну. Ира уже знает, что весь вечер после этого мать будет особенно раздражена и придирчива. Поэтому, заходя в подъезд, уже заранее чувствует тоскливую пустоту в солнечном сплетении и страх, что опять, как на мине, подорвётся на материной упорствующей истеричности и улетит за все мыслимые пределы в бездонную черноту.
В такие мгновенья Ире хочется ударить мать – вместо этого она в исступлении наподдаёт ногой стулья, швыряет на пол диванные подушки. Мать стоит посреди комнаты, опершись на палку иссохшим корневищем руки – маленькая, сгорбленная, утонувшая в необъятном байковом халате до пят. Её взгляд полон гневной силы:
- Ишь как ты бесишься, что за старой матерью надо ухаживать! Ах как бы тебе было легко и просто, если бы я могла нажать на кнопку и самоликвидироваться. Но уж прости – не могу. Самоубийство – страшный грех. А я человек верующий. А вот ты побойся Бога – так над матерью беспомощной издеваться. Известное дело – у сильного всегда бессильный виноват.
- Да кто над тобой издевается? – Ира срывается на крик. – Это ты надо мной издеваешься. Посмотри на себя, в кого ты превратилась: капризная злобная старуха, ненавидящая весь мир. И меня в первую очередь!
- Не смей так с матерью разговаривать. Я что пила-гуляла? Мужиков водила? Тебя вырастила – в детдом не сдала и на пятидневку не отправила.
- Да зачем ты меня вообще родила – чтобы всю жизнь потом попрекать тем, что ты меня в детдом не сдала? Я тебя вообще не просила меня рожать.
- Ты нелюдь. Ты просто нелюдь.
После этих скандалов Ира долго не может прийти в себя. Как будто кто-то бьёт молотком по вискам. Трудно дышать, немеют руки. Ира кладёт под язык таблетку валидола, старается поскорее ускользнуть в сон. Засыпая, возвращается в прошлое. Там, в кинотеатре памяти можно увидеть прекрасные фильмы. Ира пересматривает их вновь и вновь, переживая счастливые события детства и юности – почему-то всегда преувеличенно яркие, солнечные. Но именно в этой радостной преувеличенности – всё долженствование, именно такой и представлялась когда-то жизнь.
Ира давно разминулась с настоящим. Ей больше нравится пребывать в красочной событийности снов и воспоминаний, чем в блёклой, бессодержательной действительности. Во сне Ира снова видит маму молодой. Они гуляют по лесу, собирают землянику. Ире пять лет, в её косички вплетены бантики такого же яркого земляничного цвета. На маме – старомодное синее платье с белым кружевным воротничком, Ирино самое любимое.
Ира вкладывает маленькие пальчики в тёплую мамину ладонь, и они идут вдвоём по лесным тропинкам. Ира предвкушает, как вечером они с мамой будут вместе варить земляничное варенье и слушать пластинки на стареньком шипящем проигрывателе. И Ира, как взрослая, будет подпевать: «Дорогой длинною, да ночкой лунною...»
А потом заберётся к маме под одеяло, будет вдыхать родной запах маминых волос, выпущенных из плена шпилек. А ещё Ира попросит, чтобы мама почитала ей что-нибудь на ночь. У Иры есть несколько любимых книг – больших, с яркими картинками. В этих книгах написано о том, чего никогда не бывает в жизни. Но очень хочется, чтобы было именно так.
Мамин певучий голос произносит: «В леса-чудеса мы поедем с тобой, там бродит над озером лось голубой...» Ира закрывает глаза и оказывается в краю розовых озёр и голубых лосей. Она начинает верить, что всё это где-то есть на Земле. Надо просто подождать, и когда-нибудь они с мамой, действительно, окажутся в этих дивных сказочных лесах, где живут только добрые звери, и куда охотники не допущены.
У Иры нет ни папы, ни бабушки, ни братьев, ни сестёр. Есть только мама, в которой для Иры заключён весь мир. Ира не любит ходить в детский сад – боится, а вдруг мама неожиданно исчезнет и не вернётся. Мама очень красивая, но почему-то часто грустная. Ира хочет развеселить маму, поёт ей детские песенки, рисует для неё смешных зверушек. И мама отвлекается от печальных мыслей, улыбается и обнимает Иру: «Радость моя, счастье моё ненаглядное...»
Ире хочется поскорее вырасти, пойти работать и накупить маме много-много красивых вещей – платьев и украшений. Всё-всё ещё впереди, и Ира знает, что её жизнь будет радостной и солнечной, как тёплый июньский лес, напоённый земляничной сладостью.
Звенит будильник, и Ира заставляет себя встать в холодную зимнюю темноту – безо всякого интереса к наступающему дню.
В соседней комнате что-то падает на пол и разбивается. Ира бежит туда, включает свет и обнаруживает на полу осколки от стакана с водой, который оставляла матери на тумбочке. Мать сидит на кровати в ночной рубашке, как нахохлившийся воробей:
- Видишь, какая я стала неловкая. Что ж – пришло время.
- Ничего, мам, я уберу.
Ира сметает осколки на совок, замечает под кроватью старую, уже пожелтевшую открытку: синичка прыгает по снегу, летят снежинки, в маленьком лесном домике светится окошко. На обороте – крупными буквами написано:
«Птичка моя-синичка, дочечка Ирочка! Мама по тебе очень соскучилась. Слушайся Лидию Ивановну. Я скоро приеду. Передавай привет Мишке-шалунишке и Зайке-зазнайке. Очень тебя люблю. Мама».
Почти полвека назад это было. Один-единственный раз мама решилась уехать в командировку и попросила присмотреть за Ирой соседку этажом ниже – одинокую пожилую женщину. Мама посылала домой открытки каждый день, места себе не находила – какая там работа! А Ира целыми днями стояла у окна, высматривала маму. Когда мама, наконец, вернулась, Ира бросилась к ней, обняла, залепетала: «Мамочка, пожалуйста – никогда больше не уезжай...»
Взрослая жизнь накатила неожиданно, и преддверием её был тот майский полдень перед последним школьным звонком, когда Ира решила, что сама придёт к мальчику из параллельного класса – позвонит в дверь его квартиры, и будь что будет. Она надела новое платье и туфли на каблуках, дала вольную пшеничному водопаду волос, распустив косы.
Предмет Ириного обожания стоял на пороге, и глаза его были огромны от удивления и бездонны, как два синих моря.
- Привет – сказала Ира. И услышала из глубины квартиры голос своей лучшей подруги:
- Кто там пришёл?
Ирины каблучки так сильно стучали по ступеням, когда она сбегала вниз, что ей казалось, что рядом с ней бегут сотни ног. Этот звук оглушал её, сводил с ума. Всё было не так, всё было не с ней.
Мама сказала ей тогда:
- Где же твоя гордость? Да он мизинца твоего не стоит. И подруга тоже хороша. Вычеркни их из своей жизни. Забудь.
Ира забыла. Юность щедра на новые встречи и впечатления, её корабли легко меняют курс. И всё-таки с того последнего школьного дня началась для Иры череда любовных неудач и несовпадений. Она нравилась тем мужчинам, которые её не привлекали. И влюблялась в тех, которые быстро исчезали из её жизни, мимоходом выпустив отравленную стрелу иллюзорных обольщений в её чувствительное сердце.
К тому же никто из молодых людей не мог заслужить расположения Ириной матери. Они приходили к ним в дом, словно на экзамен. Мать и не скрывала иронии в разговоре с Ириными поклонниками, и едва за ними закрывалась дверь, произносила неизменное:
- Когда же ты научишься себя ценить? Посмотри на себя в зеркало! Красавица. А это что – свиной хрящик.
Так проходили годы. И Ира стала замечать, что мужчины перестали бросать на неё заинтересованные взгляды. Её ровесники давно уже имели семьи, детей. Дети подрастали, оканчивали школу.
Ире стало казаться, что она – та самая Серая Шейка из грустной сказки, не сумевшая вовремя улететь вместе со всеми в тёплые края, в настоящую, полную смысла и содержания жизнь, и вокруг неумолимо стягивается ледяная полынья.
Рядом с Ирой оставалась только мама, которая вдруг начала быстро стареть, болеть и раздражаться по любому поводу. В конце концов, Ирино одиночество тоже стало предметом материнского неудовольствия:
- Ну что ты всё сидишь перед телевизором? А годики-то тикают.
Ира огрызалась:
- Да вот – ценю себя. Купаюсь в своей гордости.
- Зачем ты передёргиваешь? На меня теперь всё сваливаешь? Это твой ужасный характер во всём виноват. Я хотя бы тебя родила. А ты что? Пустоцвет.
Ира часто задумывалась, могла бы она стать матерью-одиночкой? И понимала, что этот сценарий не для неё. Какой бы тяжелой ни становилась для неё со временем дочерняя роль, в ином качестве она себя не представляла. Ей часто казалось, что она лишь веточка на стволе материнской жизни – у них один общий корень, и их овевает шелест единой кроны печального, несуразного бытия.
Само Ирино рождение и все её детские переживания, и вся её жизнь потом, так и не освободившаяся от обжигающей сроднённости с матерью – всё это было так мучительно уникально, так непереносимо и неповторимо, что нечего было и пытаться разучивать и исполнять иную роль.
…Ира смотрит на маму. Та лежит с закрытыми глазами – на лицо надета страшная маска старости. Седые пряди волос разметались по подушке.
В каких далях скрылось то время – мгновение назад – когда маленькая Ира забиралась к маме под одеяло, зарывалась лицом в шёлк её волос, гладила мамины руки, не хотела отпускать от себя ни на минуту?
Ира давно уже знает, что на Земле не водятся голубые лоси и нет розовых озёр, что охотники властвуют над миром. Один из них – самый искусный – старость, и пули её невозможно избежать. Она ранит всех, загоняя сильных, самоуверенных, победоносных в западню физической немощи. А потом является ещё один охотник – самый беспощадный – и совершает свой безошибочный, итожащий выстрел.
Мать открывает глаза, и Ира видит, как слеза серебристой змейкой скользит по её щеке.
- Прости меня дочка за всё. Я же знаю, как тебе сейчас со мной трудно.
- Ну что ты мам, всё у нас с тобой хорошо. Хочешь я тебе почитаю?
Ира присаживается к матери на кровать, листает знакомые с детства страницы – расходится полувековая пелена, солнце за окном улыбается нарисованному в книге солнышку. Ире кажется на мгновение, что она так и не стала взрослой, и пятилетняя девочка, у которой всё ещё впереди, зачарованно повторяет:
В леса-чудеса мы поедем с тобой.
Там бродит у озера лось голубой.
Там чащу хвостом подметает лиса,
чтоб чистыми были леса-чудеса…