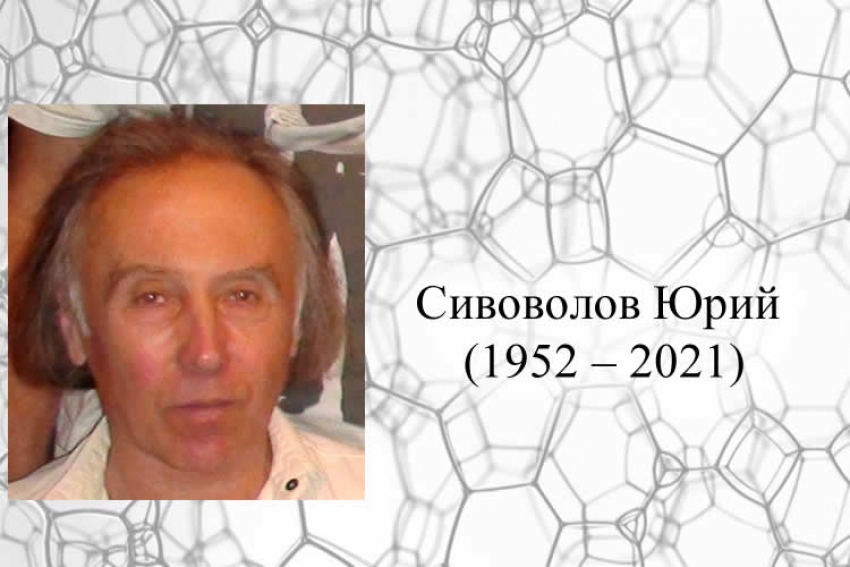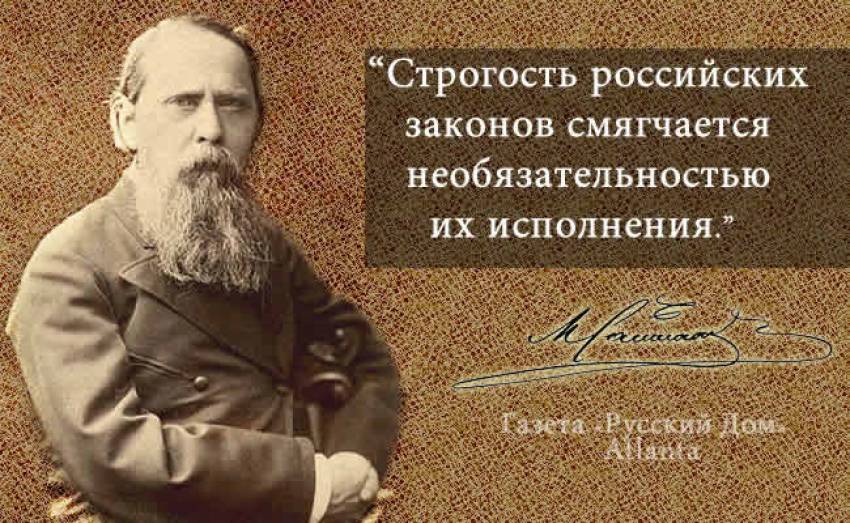Осыпается в пропасть плато,
вес утратили слово и фраза.
Человек человеку никто.
Человек человеку проказа.
Он несчастен, раздет и разут,
он сердечную пестует рану...
И финальные титры ползут
по залитому кровью экрану.
Утешенья заполнили тьму:
счастье, мол, впереди. Мол, держись, не
раскисай, человек! Но ему
ближе дар – останавливать жизни.
Он – тире от «to be» к «not to be»,
всё и вся приближает к итогу...
Много тех, кто твердил «Не убий!»,
погибали за это.
Ей-богу.
ГУЛЛИВЕР
Не смеши. Ты «гений чистый красоты»
лишь в кругу своём угодливо-безлюбом.
Гулливер, твой рост – обычные понты
наряду с блатным уменьем цыкать зубом.
В честь себя ты называешь водоём,
пару улиц и общественные пляжи.
Лилипуты в окружении твоём
от усердия подпрыгивают даже.
Голос твой – на весь помпезный тронный зал.
Этот голос не по-детски угрожает.
Ты прекрасен, ибо сам о том сказал.
Лилипуты, как всегда, не возражают.
Диссидентское кружится вороньё
в сером сумраке лениво и нечутко
и роняет на величие твоё
содержимое бурчащего желудка.
И глядит на осквернённый грязный снег
Гулливер в привычной тягостной обиде
и клянёт заокеанский Бробдингнег –
ту страну, где он не слышен и не виден.
И ПУСТЬ МОЛЧАНЬЕ
В стране пельмешек и сосисок, где мало диких обезьян,
как на дрожжах, взрастает список всего того, чего нельзя.
Плывёт, в броню одевшись, судно, пугая даже облака.
Пока – молчанье неподсудно. Лишь подозрительно слегка.
Молчит и молодость, и старость, и мнутся с пятки на носок...
Учил же вроде Леви Страус, как надо голову – в песок.
Сокрыта Личность в толще карста, недвижен чёрный водоём...
В сакральных высях Государство плюётся ядом и огнём.
Раз голова торчит из строя, то объясняют: «Хайп поймал!».
В любой стране процент героев всегда пренебрежимо мал.
Паршиво и душе, и плоти в потоке выморочных дней:
ведь если ляпнешь что-то против – «ответка» в сотню раз страшней.
Равнение – на тех, кто выше, людей из песен и газет,
на тех, кто упоённо выжег под сердцем буквы «V» и «Z»,
на тех, кто чёток, как сберкасса, кто чёрта лысого лютей,
на тех, кто спас детей Донбасса, взамен убив других детей.
Но даже в самой чёрной ночи всё ж не уподобляйтесь им.
Вода порою камень точит и размывает бравый грим.
Непросто, о былом горюя, не доверять поводырю...
«И пусть молчанье», – говорю я.
«И пусть молчанье», – говорю.
СТАРИК
С растерянным смятением в груди,
с невысказанным горестным вопросом
седой старик – Европы посреди –
стоит под небом мартовским белёсым,
исполненным предчувствия грозы...
Старик молчит. Его звезда погасла.
Проходит сквозь него чужой язык,
как финка сквозь растопленное масло.
С ним рядом сумка: свитер да носки,
потрёпанная связка старых фото –
резон для оглушительной тоски,
пригодной для ступенек эшафота.
Ведь ни понять, ни осознать нельзя,
и каждый шаг – как будто в полудрёме...
Вчера был дом, соседи и друзья,
а что сейчас, чужого неба кроме?!
Старик устал. Он стал вчерашним днём.
Он неподвижный манекен витринный...
Но бьётся в нём, набатно бьётся в нём
растерзанное сердце Украины.
БРАТЬЯ
Когда в стране отрублен интернет,
и за плакат, в котором слово «Нет!» –
удар по почкам и билет на нары,
когда запас ракет важней всего,
а теледиктор, резвый и нестарый,
готов дрочить на комплекс ПВО,
и каждый день, с какой ни встань ноги,
кругом враги, кругом одни враги,
что норовят отнять и покуситься,
когда важней прогресса марш-броски,
когда «страна берёзового ситца»
на белый свет ощерила клыки,
когда от страха даже ветер стих,
а триллион нейронов мозговых
готов привычно жрать бурду всё ту же,
когда в стране – блатной закон двора,
и разрезает и жару, и стужу
безумный, исступлённый крик «Ура!»,
когда такой огонь да волчья прыть,
и «Всех порвём!», и «Можем повторить!»,
что дым идёт от мартовских проталин,
победа – в двух шагах. Она близка!..
И во дворе сидит, согнувшись, Каин,
кровь Авеля смывая со штыка.
МУЗЫ
Есть Бог или нету? Поди-ка измерь
по мерке нестрогой.
Но ломится демон в закрытую дверь
воздушной тревогой.
Верховный, рехнувшись, сменяет штурвал
на голос орудий.
Пытаются спрятаться в тёмный подвал
от нелюдей люди.
И тянется чёрная страшная нить
тоски негасимой...
Ты смог, Мариуполь, в мозгу заменить
Сонгми с Хиросимой.
Разбиты, обрушены в мусор и чад
бетонные плиты.
А музы... Конечно же, музы молчат,
поскольку убиты.
Могли напевать бы свои до-ре-ми
покоя во имя...
Но – нет. Замолчали. Остались с людьми.
И умерли с ними.
* * *
Народ любовался на синее небо
в уютной родной тишине.
Не только ведь зрелищ хватало – и хлеба,
и хлеба хватало вполне.
Газеты и «ящик» легко, между делом,
пускали по глади круги,
народу внушая, что всё, чем владел он,
мечтают захапать враги.
Народ брёл в музеи, расслабленно хавал,
насвистывал бойкий куплет...
Но всякий ноу-хау превратился в Да-хау
буквально за несколько лет.
И Личность исчезла в ликующей массе,
другому приходит черёд,
и нынче в народном словарном запасе
одни лишь «Ура!» и «Вперёд!».
Врагов колотя, как боксёрскую грушу,
своих несогласных круша,
народ в эти действия вкладывал душу...
Пока не исчезла душа.
НОЧЬ В СТЕПИ
Сухой прохладой тянет из степи.
Поспи, сынок. Хотя б чуток поспи.
Мы в тесноте, как зэки на этапе.
В подвальном корабле задраен люк.
И темнота. И страшен каждый звук.
Глотни, сынок, водички пару капель.
Никто не ждёт весёлый фейерверк.
Был фильм для взрослых, «Не смотрите вверх» –
боюсь, что это правда. Лгут поэты.
Не слышно здесь угроз про «мир в труху»,
и безразлично, что там наверху –
кровавый Бог? Крылатые ракеты? –
одна упала к югу метрах в ста,
как будто клякса на простор листа –
земля дрожала и трещали стены...
Сынок, нам нужно выжить. В этом суть.
Хотя, конечно, мудрено заснуть,
когда всесильный страх вползает в вены…
И мир, который стал для нас чужим,
так странно, ненормально недвижим,
как детская игрушка без завода...
Там два часа осталось до зари,
и звёзды зреют, словно волдыри
на обожжённой коже небосвода.
ПРАВИЛЬНАЯ СТОРОНА УЛИЦЫ
И, возможно, однажды ты
усмехнёшься в бороду
своему отражению
в старом треснувшем зеркале
и пойдёшь погулять
по негромкому странному городу,
чьи аллеи
металлом шальным исковерканы.
Будет речка змеиться вдали
гимнастической лентою,
не пытаясь понять,
почему эта жизнь сломалась...
Будет солнце сверкать —
такое амбивалентное,
что, возможно, на миг
даже станет завидно малость.
Будет клён у дороги
поникшей листвою сутулиться,
и внутри, из листвы, как морзянкою —
птичьи трели,
констатируя: именно эта
сторона улицы –
как правило, безопаснее при обстреле.
ПРОТЕСТНЫЙ БОГ
Протестный бог оборван и небрит,
да и на бога не похож он вроде.
Он много и бессвязно говорит
о всякой чепуховине: свободе,
о совести, которую на хлеб,
как всем давно известно, не намазать.
Убогий, словно Лёша Карамазов,
он точно в той же степени нелеп.
Его уже не слушают почти,
шаг ускоряют и отводят взоры.
Он глупая помеха на пути.
Он бесполезней сломанной рессоры —
и оттого окрестный добрый люд
спешит туда, где бог войны вещает
и людям веру с правдой возвращает,
даря сердцам и гордость, и уют.
Протестный бог измучен и разут,
его душа полна самообманом:
мол, будет облегчён небесный суд
для тех, кто побывать успел в Басманном.
Его уводят, чтоб не застил свет –
земная участь мыслящих инако.
И он вползает в жерло автозака –
привычнее голгофы в мире нет.
* * *
Пространство из провалов и прорех
глядится хмуро в кляксовые лужи.
И жизни нет. Но жаловаться грех –
ведь где-то хуже. И намного хуже –
там рёв сирен над сонной головой,
там мутный страх, в душе пустивший корни,
там пояс первозданный часовой
удавкою сжимается на горле.
Меж двух миров – моря и города,
но даже в нашей нише, как ни странно,
уходит жизнь в воронку, в никуда
струёй воды из сломанного крана.
Здесь вроде всё готово к холодам,
соблюдены все правила и сроки...
Чужая боль бежит по проводам,
и в сердце бьют остаточные токи.
Кем стали мы? И кем не стали мы?
Как уберечь своих от мглы и глада?!
Преддверие Чистилища зимы,
холодного и скользкого распада.
Как в зеркала, глядим в ночную тьму,
молчащую под дождевым покровом,
глотаем боль и молимся Тому,
кто нас забыл.
Кто в нас разочарован.