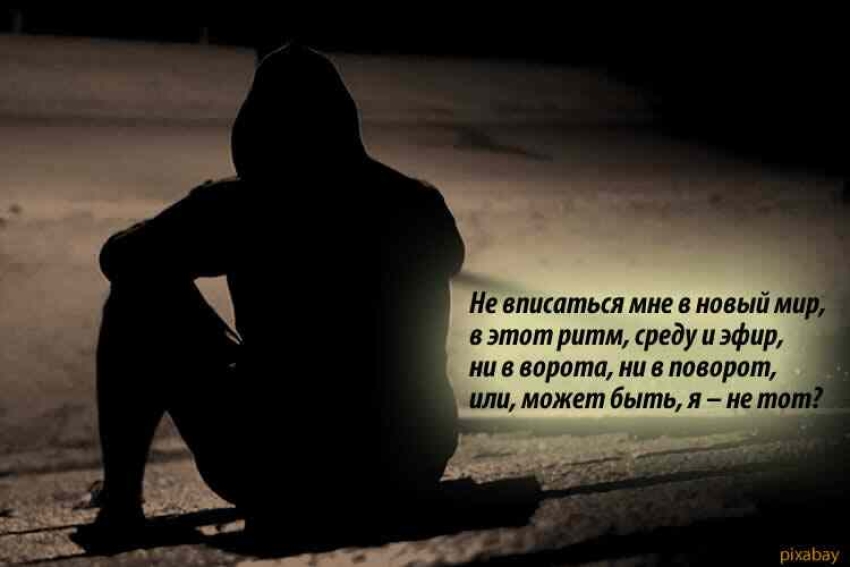Небольшая люстра на низком потолке волнительно зазвенела. Он прикрыл глаза, затаившись, до тех пор, пока толчок ни повторился, и новый звон люстры ни разнесся по помещению. Только третий толчок сумел вернуть его к жизни, заставив вздрогнуть от неуместной неожиданности. Из-за стены выглянул мужчина с длинной густой черной бородой.
- Якоб? Это ты? Ты чего так рано? Еще солнце светит.
Толстяк, вжавшийся спиной в дверь, смотрел на возникшего напротив человека, выкатив глаза.
- Ты чего, Якоб? – спросил бородатый, озадаченно и немного обеспокоенно улыбнувшись и приблизившись к испуганному толстяку, - случилось чего?
Тот с трудом сглотнул.
- Это они, - проговорил он, стараясь заглянуть как можно глубже в карие глаза собеседнику, - они снова пришли.
С лица бородатого в миг ушла улыбка. Он потупил взгляд и, вытерев руки о заткнутое за пояс вафельное полотенце, пожал могучими плечами.
- Я слышу, Якоб. Я ведь не глухой.
Сказав эти слова себе под нос, он повернулся и отправился прочь из комнаты в том направлении, откуда недавно появился. Якоб, наконец сумевший отклеиться от огромного массивного дверного полотна, закрытого на тяжелый дубовый засов, будто бы погнался за ним, на ходу отчаянно пытаясь расстегнуть впившийся между россыпью подбородков ворот дорожного плаща. Он так спешил и был так взволнован, что больше всего походил на кипящий чайник, подскакивающий на огне в камине от стремительно испаряющейся в нем влаги. На его массивном круглом лбу, незаметно переходившем в такую же гладкую лысую макушку, выступила испарина.
- Постой, - проговорил он, со злостью дергая застрявшую пуговицу в вороте, перекрывая доступ кислорода к голове, - погоди, Рузвельт.
Но бородатый будто бы и не слышал его и, не замечая его мучительных потуг, продолжал стремительно удаляться за угол. Его могучая спина уже полностью скрылась за стеной, когда Якоб наконец сорвал злосчастную пуговицу и, тяжело задышав, согнулся, уперев руки в колени. Пуговица несколько раз подпрыгнула на грубом деревянном полу и юркнула под огромный шкаф, занимавший собой практически всю стену целиком. Якоб задержал дыхание, глядя как та скрывается из виду в темном подшкафном пространстве, а потом скривил лицо в отчаянной гримасе и с досадой топнул по полу каблуком, от чего блестящая бляшка на сапоге торжественно звякнула. В эту же секунду новый толчок содрогнул все вокруг. Якоб испуганно приподнял с пола ногу, которую только что с силой на него опустил. Через мгновение, покачав головой, он кряхтя припал к полу и принялся шарить рукой в недружелюбной темноте под огромным шкафом. Нащупав наконец заветную пуговицу, он стремительно достал руку и с невероятным проворством для своей комплекции вскочил вновь на ноги, как бы стараясь сделать это как можно скорее и так же быстро забыть о том, в каком положении пребывал минуту назад.
- Рузвельт, - снова проговорил он, продвигаясь вдоль шкафа к проходу в другую комнату, - ты где? А, вот он ты.
Он застал бородача на кухне у плиты, усердно протирающим столешницу, на которую, судя по запаху, совсем недавно убежало закипевшее молоко. Толстяк вытер ладонью пот со лба.
- Ты снова меня игнорируешь? Рузвельт, это не выход, - он замолк, но только на недолгое мгновение, ожидая реакции молчаливого собеседника, но, не дождавшись оной, не медля продолжил все тем же декламаторским тоном, - нельзя просто молчать, когда речь заходит об этом. Ты постоянно отмалчиваешься. Гляди до чего дошло. Теперь они приходят сюда средь бела дня. А все только потому, что ты не желаешь говорить об этом. Отмалчиваешься просто. Вот такую безопасную нейтральную позицию ты выбрал.
Рузвельт слегка обернулся и взглянул на толстяка одним глазом, после чего вновь принялся натирать уже практически блестевшую столешницу. Якоб сделал неуверенные полшага назад и вновь вытер со лба собравшийся между глубокими горизонтальными складками пот.
- И вечно ты смотришь так, - сказал он, поправив полы плаща, - аж, вон, видишь, пот прошибает от этого твоего взгляда, - он указал пальцем себе на лоб, - говорю же, тебе даже делать ничего не надо. Можно просто посмотреть.
Рузвельт устало повесил голову, потом тяжело вздохнул и, обернувшись, достал из-за пояса вафельное полотенце и принялся вновь вытирать руки, пристально глядя на стоявшего напротив толстяка, который теперь чувствовал себя крайне неуютно, ерзая на одном месте. Комната снова содрогнулась, а массивная люстра на низком потолке жалобно зазвенела.
- Ты снова смотришь. Смотришь и молчишь. Я бы даже сказал, что ты зря тратишь свой дар… этого… своего смотрения. Ему можно было бы найти куда более уместное применение.
- Какое? – спросил наконец Рузвельт, - на них посмотреть?
- Да! – согласно воскликнул толстяк, энергично закивав, что при его комплекции более напоминало невероятно быстрое покачивание корпусом вперед-назад, - да-да, именно так.
- Скажи, ты ведь понимаешь, что мы сейчас о великанах говорим?
- Ну конечно, - ни то неуверенно ответил, ни то неуверенно спросил Якоб.
- Ты хочешь, чтобы я вышел наружу и посмотрел вот так на великанов?
Якоб молчал, перебирая в голове кипу подходящих или не слишком подходящих ответов на, казалось бы, до неприличия простой вопрос. Он был убежден, что это вопрос с подвохом, а значит на него нельзя отвечать сходу, нужно было дать ответу всплыть наружу, отодвинув несколько других, подходивших для точно такого же вопроса, но только без подвоха.
- Да, - снова ответил-спросил Якоб, вжав круглую голову в плечи, ровно настолько, насколько это вообще представлялось возможным.
- Так, давай проясним, - сказал Рузвельт, сложив руки на груди, все еще сжимая в правой руке вафельное полотенце, - ты хочешь, чтобы я вот так вот посмотрел на великанов? Этих огромных, злых, кровожадных, жестоких, неприятных, невоспитанных, диких, дурно пахнущих и не обремененных интеллектом великанов? С их огромными злыми глазами, вечно нечищеными зубами, острыми ногтями и длинными бородами? Ты хочешь, чтобы я к ним вышел? И не просто вышел, а чтобы еще посмотрел на них? Ты этого хочешь?
Якоб обиженно потупил взгляд, вновь поправляя и без того поправленные полы дорожного плаща.
- Ну тут ты не прав. Не нужно так. Это неправда.
- Почему? Люди ведь именно такими их видят. Я даже еще не все назвал. На прошлой неделе я слышал, как Люси с соседней улицы, та, что торгует на рынке у главной площади, уверяла подруг в том, что у них огромные, волосатые…
- Все, я понял, - остановил его Якоб, опустив голову и подняв перед собой руку, - дальше можешь не продолжать, спасибо. Я даже боюсь предположить, откуда она взяла эту информацию
- Ну вот, - сказал Рузвельт, присаживаясь на натертую до блеска каменную столешницу, - ты ведь знаешь, что я прав. Ты даже сам тоже так думаешь. Не осознанно, разумеется, только подсознательно.
Якоб вдруг сердито сдвинул тонкие брови и вытянулся в струнку.
- Это что еще за обвинения? – смело спросил он, но тут же осекся, испугавшись собственной смелости, - я никогда ничего подобного…
- Да брось ты, Якоб, - махнул на него увесистой рукой бородач, - мне можешь не рассказывать. Я знаю, как все обстоит. Меня не обманешь. А еще я знаю, что у меня нет ни капли желания что-то делать для этих людей. Я больше не стану им помогать. С меня хватит.
Толстяк глубоко вздохнул и снова вытер складки на лбу, между которыми скопился пот. Стоило ему потревожить мирно покоившиеся на кожистых впадинах водохранилища, как они пролились вниз на брови бурным соленным потоком.
Пол снова задрожал, на этот раз сильнее прежнего. Дверь полки над столешницей распахнулась, и пара тарелок с треском разбилась о деревянный пол. Якоб едва успел увернуться от одного из осколков, который пролетел в сантиметре от его головы.
- Прости, - сказал Рузвельт, - я сейчас подмету.
Он взял стоявший в углу большой веник и начал тщательно сметать осколки в одну кучу. Якоб, вновь обретший цвет после чудного спасения, подошел к окну возле кухонных полок и посмотрел наружу, отодвинув расписные занавески с разноцветной бахромой.
- Взгляни, - сказал он через несколько секунд созерцания царящего за окном хаоса, - посмотри на этих людей. Разве они виноваты в чем-то, кроме того, что очень боятся? Я бы хотел уехать отсюда. Куда-нибудь очень далеко. Куда-нибудь, где все время тепло. Поближе к морю. Уехать, и забыть обо всем этом. Я бы очень хотел, - он обернулся к бородачу, сгребавшему кучу осколков на совок, - но не могу. Точно так же и ты. Ты бы очень хотел наказать их. Проучить за недалекость своим бездействием. Но не можешь. Я ведь знаю, что ты не можешь.
- Поосторожнее, - сухо проговорил Рузвельт, снова взглянув на невысокого собеседника вполоборота одним глазом.
Якоб было осекся, но потом улыбнулся и снова покачал головой, а вернее, всем своим округлым телом. Пот уже не капал со лба, а буквально стекал, отчего глаза постоянно щипали, и приходилось часто моргать, чтобы отчетливо видеть стоявшего напротив мужчину в красной рубахе и с заправленным за пояс вафельным полотенцем.
- Да, Рузвельт, я точно знаю, что ты не можешь. Они ведь тебе как дети. Пусть и не считают тебе своим отцом.
Бородач смотрел на толстяка сверху вниз с присущим только одному ему холодным каменным выражением лица, по которому нельзя было понять абсолютно ничего относительно того, что именно сейчас чувствует его обладатель, и какие именно мысли сейчас текут в его сознании.
- Завязывай, Якоб, - снова проговорил Рузвельт одними только губами, оставив неподвижным все остальное лицо, - ты не годишься мне в учителя. А продолжаешь читать мне лекции.
- Я и не думал тебе лекции читать, - дрожащим голосом ответил толстяк, снова подходя к окну, - просто выгляни.
- Да не собираюсь я туда смотреть. Что я там не видел?
- Ну тогда я сам буду тебе рассказывать, раз смотреть не хочешь, - продолжая метаться между смелостью и трусостью, сказал толстяк.
- Якоб, не стоит…
Но толстяка уже было не остановить, настолько он осмелел. Уставившись в окно, он принялся громко вещать непривычно уверенным для себя голосом.
- Я вижу пять, нет, шесть великанов. Один из них только что чуть было ни наступил на дом госпожи Друм с соседней улицы. А ведь у нее двое маленьких детей, двойняшки, мальчик и девочка. Можно было бы сказать, что им всем повезло, но, вот незадача, вместо дома он раздавил сарай, в котором был их коровник. Впереди зима, и теперь у всего семейства Друмов нет коровы…
- Якоб, остановись, - сухо, но гораздо громче всех прежних слов, сказал бородач.
- Другой великан только что раздавил дядюшку Ганса с окраины, - продолжил толстяк, не обратив внимания на угрожающе громкие слова Рузвельта, - ты должен помнить дядюшку Ганса. Он просит милостыню по воскресеньям возле рынка. Вон он, дядюшка Ганс. Он теперь похож на красную кляксу. Все потому, что он очень старый, и не может уже быстро бегать. Пару лет назад он, должно быть, еще мог бы успеть отскочить в сторону и не стать пятном на ступне того здоровяка. О, а вон тот, я вижу, решил пойти прямиком к складам на окраине. Если доберется, то очень многие будут голодать этой зимой.
- Хватит! – закричал Рузвельт, от чего в голове толстяка что-то громко зазвенело, заглушив абсолютно все звуки окружающего мира.
Бородач стремительно прошествовал к входной двери и, с грохотом, которого Якоб не расслышал, сбросил на пол тяжелый дубовый засов. Он распахнул дверь, впустив в мрачное помещение свет уже опустившегося за соседние горы солнца. Не задерживаясь ни на секунду на пороге, он вышел на улицу, даже не пытаясь переступать через опрокинутые на площади перед огромным домом маленькие тележки с овощами. Стремительно прошествовав к самому центру площади, он остановился. Каждый его шаг сопровождался треском стекол и звоном бьющейся посуды во всех обрамлявших круглую площадь домах.
- Уходите обратно в лес! – закричал он.
Весь шум в миг прекратился. Якоб, к этому моменту уже вновь обретший зачатки слуха, подбежал к окну. Он увидел, как огромные великаны замерли, устремив свои свирепые взгляды на него. В их свирепых взглядах отчетливо виднелся страх.
- Уходите, и больше не возвращайтесь в мой город!
Все пять великанов сначала попятились, а затем, развернувшись, бросились бежать в сторону гор, за которыми спряталось осеннее солнце. Рузвельт еще долго стоял посреди площади и провожал их своим равнодушным взглядом. Его грудь тяжело вздымалась от нахлынувшей на какое-то мимолетное мгновение злобы. Из всех окрестных зданий нерешительно выглядывали люди. Прежде, чем бородач смог их увидеть, они уже вышли на площадь и теперь стояли, окружив его с трех сторон. Он оглядел их всех, сбитый с толку. Слишком уж неожиданно они тут все появились. Среди прочих он увидел госпожу Друм, державшую свою маленькую дочь на руках. Мальчик стоял рядом и держал маму за свободную руку. Девочка с любопытством и восхищением разглядывала возвышавшегося над всеми бородача. Вдруг она резко спрыгнула с маминых рук на каменную мостовую и, подойдя к Рузвельту, протянула ему цветок. Это была грубо сорванная ромашка, половина лепестков с которой уже опала. Бородач не хотел его брать, но все люди смотрели на него с вожделением и каким-то молчаливым боязливым укором, так что он согнул колени и принял ромашку из маленьких рук девочки.
- Мой брат говорил, что ты давно умер, - сказала она звонким голоском, - а я знала, что ты придешь и всех нас спасешь.
Сказав это, она тут же развернулась и убежала обратно к маме, которая схватила ее снова на руки и углубилась как можно дальше в толпу. Но не покинула площадь.
Рузвельт несколько долгих молчаливых секунд осматривал собравшихся вокруг него людей, и на его каменном лице возникло подобие растерянности. Он переводил озадаченный взгляд, который у любого другого носителя мог бы с легкостью казаться испуганным, с одного обращенного к нему вверх лица на другое, после чего стремительно развернулся и, в два широких шага преодолев площадь, вбежал обратно в большую деревянную дверь. Закрыв ее на тяжелый засов, он прильнул к массивному полотну спиной и громко задышал. Так продолжалось до тех пор, пока из-за угла ни показался Якоб. Он неуверенно, на дрожащих под грузом ответственности ногах прильнул к ножке огромного шкафа, не решаясь взглянуть в карие глаза уставившегося на него бородача. Рузвельт сделал быстрый шаг и, опустившись на колено, взял толстое тельце Якоба в руку, в меру сжав его, что заставило толстяка даже не вскрикнуть, а хрюкнуть, выпустив весь имевшийся в легких и во всех остальных внутренних органах воздух.
- Ты, - грозно прошипел бородач, поднеся руку с зажатым в ней человеком к самому лицу.
Якоб словно рыба продолжал глотать никак не желавший проходить внутрь воздух. Его обычно розовое лицо побледнело и даже, казалось, постройнело. Рузвельт ослабил хват и поднес к жадно дышавшему толстяку вторую руку, в которой была ободранная ромашка.
- Это тебе, - сказал бородач, улыбнувшись.