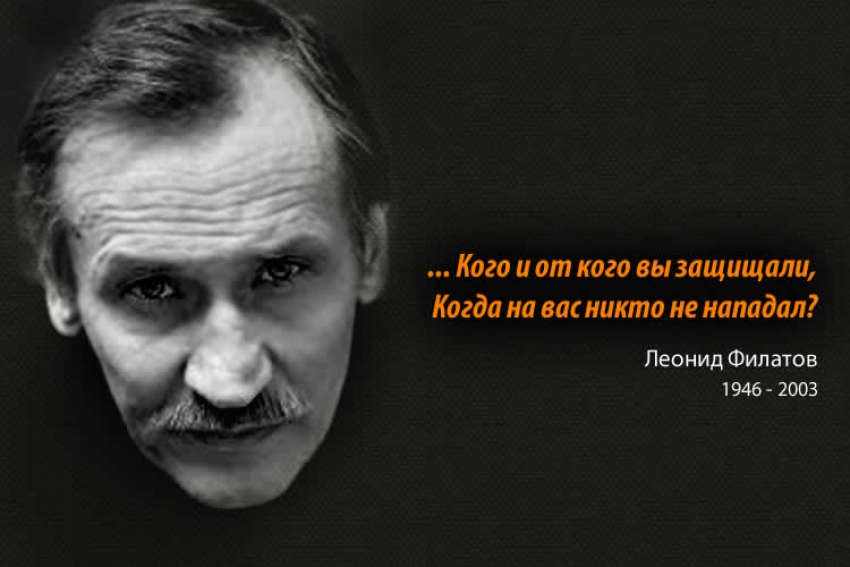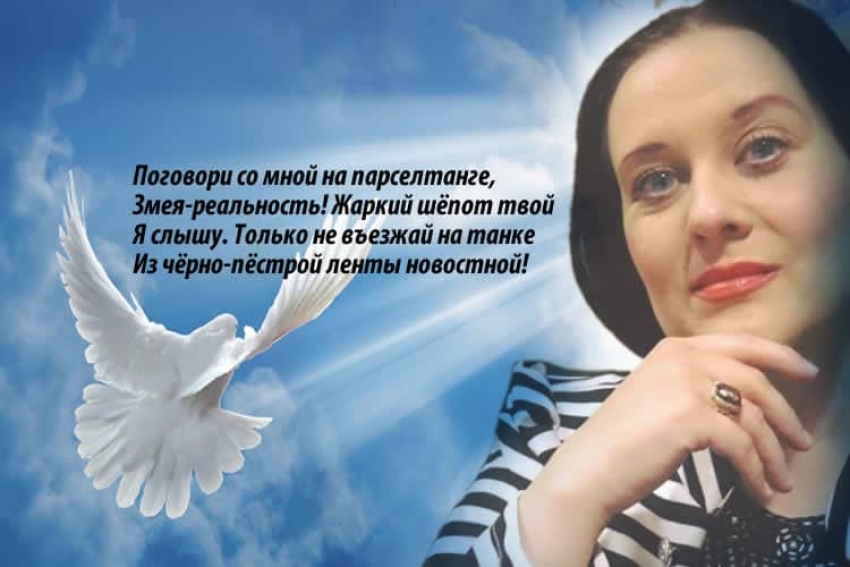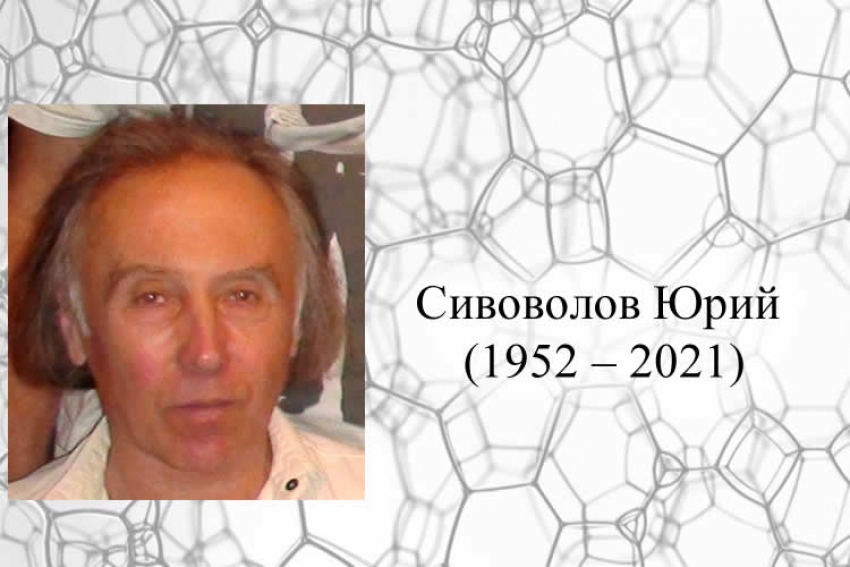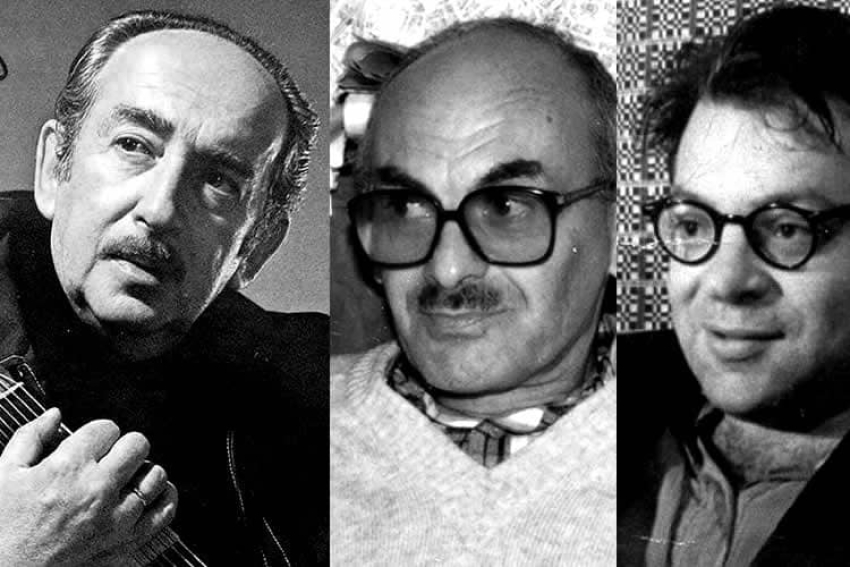К читателю.
Я не стремился к подробному изложению своего прошлого, многие имена, время и место действий изменены, в мою задачу входило воссоздание той атмосферы, в которой я родился, вырос и ушёл на пенсию. И сегодня, в преклонном возрасте, я с горечью осознаю, что отношусь к поколению, которое можно назвать потерянным поколением.
Для меня потерянным поколением является поколение, которое свою юность, молодость и зрелые годы провело в страхе, лжи, лицемерии и в постоянном унижении. В СССР какое бы ты положение не занимал, всегда находились те, кто держал тебя в страхе, опутывал ложью, вынуждал тебя быть лицемерным и доводил до униженного состояния. Автор
Язык политики выдуман для того, чтобы ложь звучала правдиво, убийство выглядело благородным поступком или актом возмездия, а пустословие казалось исполненным смысла.
Джордж Оруэлл
1. Диссидент или вместо вступления.
Не знаю, как у кого, но в нашей школе, в восьмом "А" классе, история считалась легким предметом. Может быть, по той причине, что преподаватель истории Мария Яковлевна Драга не особо напрягалась. Сейчас, по прошествии пятидесяти с лишним лет, понимаешь, что она просто отбывала время, вела урок спокойно, не замечая, или не придавая значения тому, что не все ученики вовлечены в учебный процесс. Ее муж, Николай Драга, занимал высокий пост председателя райисполкома, по сути, был вторым человеком в районе, и опасаться «набегов» директора школы Орлова Ивана Петровича, ей не приходилось.
В тот день, с которого берут начало мои воспоминания, на уроке истории Мария Яковлевна рассказала о своеобразном юбилее, торжественной дате в истории советского спорта. Оказывается, советской тяжелой атлетике, с этаким пафосом объявила она, в эти дни исполнилось 80 лет, и объяснила, что в свое время, а именно в 1885 году, в Петербурге одним из передовых людей того времени - Владиславом Краевским - был открыт «Кружок любителей атлетики».
-Ну и ну?! - удивился я:
- Ведь самой Советской власти к тому времени и пятидесяти лет не исполнилось?
И тут меня осенило. По аналогии, если учитывать досоветский период, то и советскому театру должно быть более 2000 лет, ведь несколько лет тому назад Армения помпезно отмечала двухтысячелетие армянского театра. Я не особый знаток истории, но одно время увлекался марками, и в моём кляссере имелись марки, посвященные этому событию. И я, как потом выяснилось, сделал первый, политически мотивированный, а потому неверный шаг в своей жизни, необдуманно воскликнув:
- А почему мы не празднуем двухтысячелетие советского театра?
И ударился в рассуждения, стал пояснять сказанное, проводить параллель с юбилеем тяжелой атлетики.
Мария Яковлевна выслушала меня хладнокровно и, ехидно изрекла:
- Оказывается, у нас в классе сидит крупнейший историк современности, а мы и не знали.
Класс стал в угоду учительнице посмеиваться. Выдержав паузу, чтобы ученики вернулись в «рабочее состояние», довольная собой, Мария Яковлевна заключила:
- А теперь, Карапетян, вернись на землю. Я все пытаюсь хотя бы одну четверку тебе поставить, чтобы четверть вытянуть, а ты где-то в облаках витаешь.
Я смутился, вспомнив о веренице троек в журнале...
Вечером мать набросилась на меня:
- Чего это ты, скандал в школе устроил?!
- Какой скандал? - удивился я.- Не было такого!
- Как ты, вот так спокойно, умудряешься неправду говорить. Подожди, отец вернется - три шкуры с тебя сдерет!
- О чем это ты, мам? – я в недоумении застыл, пытаясь сообразить, что происходит. Мысленно прокручивал весь день. Вспомнил, как на уроке химии я спорил с “химиком” Василием Яковлевичем Забросковым с каким счетом закончится предстоящий матч московского “Торпедо” с ереванским “Араратом”. Он был заядлым болельщиком “Торпедо”, а я, соответственно, болел за “Арарат”. Я, соблюдая субординацию, пассивно наседал на Василия Яковлевича, но и этот спор продолжался от силы 1-3 минуты. Затем последовал урок, как всегда интересный и содержательный. Мне нравился этот преподаватель, из-за него я и химию полюбил. Уроки он вел в непринужденной обстановке, как бы беседуя с нами, словно бы рассказывая о делах домашних. Мы с большим вниманием слушали его и неожиданный звонок об окончании урока доставлял нам даже некоторое огорчение. А потому и не укладывалось в голове, чтобы он мог донести об этом пустяковым диспуте директору школу. А эта новость потом по цепочке дошла до моих родителей.
2. Отец
Угроза, что отец с меня три шкуры спустит, меня не страшила, так как знал его мягкий, покладистый характер, его отношение к детям в целом и ко мне, в частности. Его отличало тотальное спокойствие и замкнутость, что среди шумных, вспыльчивых и резких в выражениях друзей, соседей и знакомых, считалось положительной чертой характера. За все свои детские школьные годы я получил лишь одну оплеуху. Забегая вперед, отмечу - вполне заслуженную. Насколько помнится, я учился в то время в шестом классе. У меня закончились чернила в авторучке, а я имел счастье писать не простой ручкой, а китайской, с золотым пером - подарок младшего брата моей мамы, дяди Левона. Между прочим, известного спортсмена, неоднократного чемпиона СССР по борьбе самбо. Так вот, кончились чернила и я, в надежде отыскать дома пузырек с чернилами, дабы не мотаться по магазинам, стал искать дома: осмотрел полки в складском помещении, искал склянку с чернилами среди заготовленных на зиму банок с вареньем и соленьями, заглядывал в выдвижные ящики комода, который стоял в прихожей. Затем вытряс на диван все содержимое из портфеля своей сестры: вперемежку с тетрадями и учебниками, посыпались иголки, нитки, куклы и всякая дребедень, но чернил не обнаружил. Продолжая поиски, обшарил стеллажи и шкафы на кухне, в гараж заглянул. Не оставил без внимания шкафы в столовой комнате и добрался до кабинета отца. В самом нижнем ящике его массивного рабочего стола, обнаружил... не чернила, нет - новенький пистолет Макарова, что ни на есть, весь в масле. И, забыв о чернилах, не задумываясь о последствиях, засунул эту железяку за пояс и помчался в школу.
Два дня ходил героем. На одной перемене пришло в голову выстрелить в открытое окно , произвёл потрясающий эффект. Девочки после этого очарованно «расстреливали» меня глазками, или мне так казалось. Скорее всего, хотелось, чтобы так было на самом деле. На следующий день я осмелился ещё на один выстрел: на перемене прошли на территорию школьного сада, и я выстрелил с пяти-семи метров в ствол дерева. Потом мы долго толпились у дерева, изучали дырочку от выстрела, пытались определить глубину, на которой застряла пуля. Несколько дней после исторического выстрела вся школа любопытства ради к этому дереву перебегала.
Тут двоюродный брат Микаэл объявился, попросил поносить оружие. Как ему отказать? Солидный человек, на три года старше меня. А вскоре он доверил еще более солидному, тот очевидно еще кому-то. И пистолет пропал. Микаэл испугался и рассказал своему отцу, моему дяде, а тот - своему брату, моему отцу тоесть.
Возвращается раздосадованный отец домой, а я прямо на пороге стою и как всегда ему улыбаюсь (я же не догадывался, что произошло). Здесь я и вывел отца из себя своей дурацкой ухмылкой. Он отвесил мне увесистую оплеуху и я, строго соблюдая законы физики, прямиком отлетел к противоположной стенке.
Услышав шум, вышла из кухни перепуганная мать. Отец пришел в замешательство и буркнул ей:
- Убери этого мерзавца, чтобы глаза мои его не видели.
Пистолет, конечно, нашли, вернули. Но оплеуха, первая и последняя в моей жизни, осталась и на всю жизнь запомнилась.
Запомнился мне еще вот такой случай школьных времен. В седьмом классе учительница французского языка Наталья Владимировна, одержимая мыслью добиться от меня отличного владения французским языком, стала меня прессовать. Такая язва была! Как вспомню, так и мороз по коже. Каждый день вызывает к доске и гоняет по-черному.
А какие могут быть результаты, если я после школы, как забрасывал портфель на кушетку в прихожей комнате, так только утром на следующий день, перед уходом в школу, вспоминал, что надо было бы хоть раз в учебники заглянуть.
Довела она меня до такого состояния – хоть школу бросай. К слову сказать, мои родители в начальниках ходили и особо нами не занимались. Мы были сыты, одеты, обуты - чего же еще?
И я нашел способ, как дать понять Наталье Владимировне, чтобы отвязалась от меня. Она снимала угол в частном полутораэтажном неказистом домике у одной старушки. Мы с моими друзьями, соседом Эдиком Хрояном и одноклассником Валерой Мкртчяном, вычислили ее комнату, и поздно вечером подкрались к окну. Чуть дыша и волнуясь, набрали камней побольше в обе руки, и на счет “раз, два, три” - пальнули. Атака оказалась удачной - стекло, издавая "душераздирающий" звон, стало осыпаться. Мы - ноги в руки и по домам.
На следующий день я миролюбиво смотрю Наталье Владимировне в глаза, она с тем же миролюбием вызывает меня к доске. Вечером этого дня мы повторили залп, и осколки нововставленных стекол с уже знакомым нам звоном посыпались вниз. В школе я опять тепло и преданно смотрю ей в глаза, и она отвечает тем же и опять вызывает меня к доске. "Ну, что ж, дождемся вечера": - думаю я себе.
Вечером меня от злости аж трясло, я по дороге собирал камни, выбирал покрупнее, мелкие откидывал.
Подошли к окну, заняли удобную позицию, но только успел я сказать «раз», как перед нами выросла фигура крупного мужчины. Мы с визгом, которому и разбитое стекло бы "позавидовало", рванули в разные стороны. Мне не повезло - этот мужчина почему-то в мою сторону побежал. Вероятно, все-таки в этом случае восторжествовала сама справедливость, ведь ловить нужно было именно меня. Я бежал со скоростью света, но мужчина бежал быстрее, и я, понимая, что конец известен, и как только он схватил меня за шиворот, выпалил: «Я сын Карапетяна Самсона». Понимал, что только это спасет меня от заслуженного мордобития. Отца в то время только назначили (рука не поднимается, написать “избрали”) вторым секретарем райкома партии нашего города. С этим простому люду надо было считаться. Я уже имел удовольствие не раз и не два убеждаться в преимуществах, которые кроются под словосочетанием «райкомовский отпрыск», или, как за глаза нас называли некоторые учителя, «сопливая интеллигенция». Мужчина оторопел,остановился, посмотрел на меня. Я узнал его, это был молодой инженер, которого к нам в Калинино (ныне город Ташир) на стажировку прислали. Он, немного поразмыслив, понял, что в данном случае можно нарваться и на неприятности, продолжая крепко держать за шиворот мою «светлость», молча повёл эту «светлость» в сторону дома секретаря райкома партии, Самсона Карапетяна.
К сожалению, на втором этаже свет не горел, светились только окна первого этажа. Пишу «к сожалению», потому, что я надеялся, что если отец уже на втором этаже, в своей комнате отдыхает, то молодой инженер не решится его беспокоить.
Он постучал в дверь и, подталкивая меня, вошел.
Отец сидел в кресле напротив двери, как всегда с газетой «Правда». Очевидно, изучал очередные директивы о внеочередном повышении роли партийных ячеек на местах, или как страна, возглавляемая самыми лучшими сынами отечества (в смысле - коммунистами), уверенными шагами движется от социализма к развитому социализму, намереваясь и дальше двигаться в сторону коммунизма, который уже несколько десятилетий маячит на горизонте.
Молодой инженер, увидев отца, растерялся и начал мямлить:
- Товарищ Карапетян, вы меня простите, но… Вот уже два дня… Разбивают окно… У нас маленький ребенок… Мы всю ночь не спим… Вы простите меня… Товарищ Карапетян…
Затем, набравшись духу, выпалил:
- До свиданья, товарищ Карапетян, спокойной ночи.
А отец, как уставился в Центральный орган компартии СССР, так в течение всего этого нечленораздельного монолога ни одного движения и не сделал. Такое впечатление, словно он восседает в своем любимом кресле со своей любимой газетой в полном одиночестве.
Инженер, переминаясь с ноги на ногу, постоял еще пару минут и, не зная как поступить, развернулся и вышел, осторожно прикрыв за собою дверь. На «подиуме» остался я один. Стою, понурив голову, жду, а отец, как ни в чем не бывало, продолжает читать газету. Проходит пять минут, десять – тишина, лишь слышно, как отец страницы переворачивает. Я, наконец, осмелев, делаю небольшой шаг в сторону двери - никакой реакции. Я продолжаю - еще один шаг, затем еще. Постоял у двери c минуту и тихонечко вышел.
Ни в тот вечер, ни на следующий день и вообще никогда, отец не вспомнил о том инциденте.
Надеюсь, этими примерами я смог убедить читателя в том, что отца мне менее всего следовало опасаться…
_____
А мы, оказывается, неточно вычислили комнату Натальи Владимировны, не в то окно палили. И это произошло по вине Эдика. Когда я ошибочно указал на ближайшее окно, он тут же не раздумывая согласился. Надо сказать, он поступил очень опрометчиво, а опрометчивость, как известно, в таких вопросах - не лучший советчик. И все пошло наперекосяк...
3
- Мам, ты можешь мне сказать, на каком уроке я скандалил? - наконец сообразил я спросить.
- Ой, ой, ой, - мать стала причитать и качать головой, - в кого ты такой уродился?
- Мам, ну серьезно.
- На уроке истории, на каком еще. Хватит притворяться. Из тебя невинной овечки не получится, как ни старайся!
- На истории!? Да я только один вопрос задал, а она высмеяла меня перед классом и не ответила,- столкнувшись с откровенной несправедливостью, у меня от обиды глаза на лоб полезли.
- Ух, ты какой! Оказывается, учительница высмеяла его. Какая беда-то. Какая нехорошая учительница, - всплеснула руками мама.
В это время позвонили. Мама подняла трубку и долго, молча, слушала, лишь изредка добавляла: «Ну да», «Конечно», «Естественно», «Вы правы».
Положила трубку и обернулась ко мне:
- Завтра зайдешь на большой перемене к директору.
- А его никогда на месте не бывает.
- Хватит перечить! - оборвала меня вконец расстроенная мать.
- Его постоянно все ищут, - я стал раздражаться в ответ, - то и дело слышишь: «Вы не видели Ивана Петровича? Вы не видели Ивана Петровича?»
- Будет дверь закрыта, у двери постоишь всю перемену. Понятно?!
- Понятно, - проворчал я и поднялся к себе в каморку.
У нас на втором этаже, по недосмотру проектировщиков, образовался не то чулан, не то комната, и я облюбовал ее для себя. С трудом втиснул кровать и тумбочку рядом, одним словом, обустроился, а на дверь еще и замок повесил. Мать, когда пребывала в хорошем настроении, подшучивала надо мной:
- Смотри, как бы твои миллионы не выкрали!
На следующий день на втором уроке, перед большой переменой к нам, в класс заглянул директор. Стоя в дверях, прошерстил все ряды суровым взглядом и, отыскав меня, сказал:
- На перемене ко мне зайдешь, я жду тебя.
Настроение, прямо скажем, ниже среднего. Главное, я не могу понять, что я такого натворил. Вопрос задал. Разве нельзя вопросы задавать?
Прозвенел звонок, иду, понурив голову. Поскольку дверь открыта, захожу без стука в кабинет, стою, переминаясь с ноги на ногу. Иван Петрович, словно бы не замечая меня, с серьезным видом что-то пишет. Соображаю, если сейчас прозвенит звонок на урок, как быть? Но нет, он отложил бумаги и, не глядя на меня, спрашивает:
- Карапетян, в последнее время с какими-то сомнительными пацанами тебя видят. Кто они такие?
Я еще больше растерялся:
- Да ни с кем я, кроме моих друзей, не общаюсь... с нашими соседями только - и все.
- А откуда у тебя эти мысли?
- Какие мысли? – напрягаюсь я.
- Кто тебя надоумил такие вопросы задавать?
- Какие, Иван Петрович? Я всего один вопрос задал, и всё.
- Всего один вопрос, - усмехнулся Иван Петрович, - если бы ты задал вопрос, какой полагается задавать ученикам, то и не стоял бы сейчас здесь. Ты понимаешь, что можешь подставить не только Марию Яковлевну, не только меня, но и своего отца. Ты подумал об этом?
Иван Петрович сделал паузу, чтобы я имел возможность осознать всю степень своего “грехопадения”, и продолжил:
- Ты, - он показал на меня пальцем, чтобы я не сомневался в том, что речь именно обо мне идет, - добьёшься того, что тебя из школы попросим. Отправишься коров пасти. Но и там ты не сгодишься, там тоже грамотные нужны, коров считать надо уметь.
От нахлынувшего волнения я стал всхлипывать, накатились слезы, и тут меня прорвало, завыл, как волк, попавший в капкан. Слезы градом… реву, не стесняясь. Иван Петрович встал с места, подошел ко мне и стал гладить по голове:
- Ну все, все, успокойся, успокойся. А впредь думай головой, ты ведь взрослый уже. Рассказывает вам Мария Яковлевна о тяжелой атлетике, вот о тяжелой атлетике и задавай вопросы. И нечего отсебятиной заниматься.
Я стал успокаиваться, мягкая рука и спокойный голос Ивана Петровича возымели надо мной действие, и я, продолжая всхлипывать, спросил:
- А что, есть вопросы, которые нельзя задавать?
Иван Петрович, тяжело вздохнув, вдруг ожесточился:
- Таких вопросов нет, - резко ответил он, - но думать надо, Карапетян!
И продолжил на повышенных тонах:
- Думать надо. Понимаешь?!
Затем рывком развернул меня к двери:
- Иди, иди, – и, качая головой, он что-то невнятно пробормотал и, в сердцах, вытолкнул меня из кабинета.
Я, так ничего и не поняв, поплелся в класс. Навстречу шла старшая пионервожатая, товарищ Алла. Увидев мое зареванное лицо, улыбнулась:
- Ну что, диссидент, досталось тебе?
Я испуганно посмотрел на нее, низко опустил голову, и пошел дальше. «Что это она сказала? - подумал я.- Как это она обозвала меня? Что такое диссидент?»
На следующий день проходил мимо газетного киоска. Там тётя Люся работает, она всегда мне еженедельник «Футбол» оставляет. Думаю, дай-ка спрошу, что это за слово.
-Здравствуйте, теть Люсь. Вы не знаете, что означает такое слово… Вчера меня обозвали этим словом…
- Каким словом?
- Вот, выскочило из головы… Только что ведь помнил…
- Я тебя научу, как быть в таких случаях. Вспомни, в какой обстановке, или по какому поводу оно прозвучало.
- Меня товарищ Алла этим словом обозвала.
- Эта старая дева? От неё ничего хорошего не жди, - махнула рукой тетя Люся.
- Ну как, вспомнил?
- Нет, забыл, тёть Люсь, как вспомню, спрошу, - стушевался я окончательно.
____
Вспомнил я это слово лишь лет пять спустя, став московским студентом.
4. Москва. Главный корпус Московского педагогического института.
Большой перерыв между парами. Коридор гудит как растревоженный улей. Весь курс высыпал поразмяться - без малого человек сто-сто двадцать. Энергичным и озорным студентам тяжело высидеть шесть пар подряд после летних каникул. Кругом хохот, нецензурная речь, шелест тетрадей, стук каблучков, сигаретный дым и громкие приветствия. Я стою у стены в группе ребят, которые восторженно делятся своими подвигами за выходные дни и заметил Валентину Семеновну, зам. декана нашего факультета, белолицую женщину со вздернутым носиком и с огромными зелёными глазами. Она пробиралась в толпе, раздвигая студентов и высматривая кого-то.
Но вот, Валентина Семёновна, загадочно улыбаясь, протиснулась между плотно стоящими юными телами, дышащими энергией, задором и пропитанными сигаретным дымом, и приблизилась ко мне на достаточно близкое расстояние. Настолько близкое, что я, признаюсь, растерялся, ведь до сих пор она практически не замечала меня и никаких признаков фамильярности не проявляла.
Она, как правило, приветствовала меня, вернее отвечала на моё приветствие, когда случалось идти навстречу друг другу, как говорится лоб в лоб, небольшим кивком головы, при этом глядя либо под ноги, либо рассеянно по сторонам.
Теперь же подошла и цепко схватила меня за руку, словно опасаясь, как бы людское море не поглотило меня и я не затерялся в толпе.
- Вот ты-то мне и нужен! – пробасила она, обдавая меня теплом своего тела и азартно стреляя изумрудными глазами.
- Вот смотри, - выпалила она и, заигрывая, помахала перед моим лицом, слегка задевая мой армянский нос, помятым листком бумаги, вырванным из тетради в клеточку.
- Валентина Семеновна, не издевайтесь, - пробурчал я совершенно озадаченный и обескураженный её поведением.
- Всё, всё, гарачый джыгит, смотри, - она развернула лист бумаги с текстом в мою сторону.
На помятом листке с трудом прочитывалось небрежно написанное неизвестное мне имя и номер телефона .
- А кто это - Виктор Урин? – не понял я.
- Как, - воскликнула, продолжая жеманничать, Валентина Семёновна, - ты не знаешь Виктора Урина?! Как можно не знать Виктора Урина!? Автора восемнадцати книг! Ты меня убил! - и торопливо добавила :
- А впрочем, и я его не знаю, но это не важно. Он поэт. Автор многих книг. Член Союза и так далее, приглашает к себе в гости. Я сразу о тебе подумала, перепиши номер.
Затем, сообразив, что переписка номера займет немало времени, пока я схожу в аудиторию за бумагой и ручкой, она сунула мне в руку смятый листок с адресом.
- Только не потеряй. Позвони ему. Потом расскажешь.
И, словно старый закадычный друг, подмигнула и поспешила в сторону деканата.
5. Виктор Урин
Сразу после занятий я отправился на поиски двухкопеечной монеты, чтобы позвонить с телефона-автомата, автору восемнадцати книг, теряясь в догадках, что ему от меня нужно. Выторговал двушку в газетном киоске. Вернее, выменял. Киоскерша поставила условие: беру четыре экземпляра газеты «Социалистическая индустрия» и на сдачу получаю двухкопеечную монету.
Когда сделка состоялась, я тут же, демонстративно, у нее на глазах, свалил газеты в ближайший мусорный ящик и поспешил к телефонной будке. Встал в очередь, в полном неведении, кому я намереваюсь звонить и, что должен сказать, а главное, что ответят мне.
В Москве, в те годы, с телефонной связью не было проблем, так что минут через сорок и моя очередь подошла. Не успел я за собой закрыть дверь кабины, как мне в спину зашипели:
- Кацо, не тяни только.
Стал набирать номер в полной уверенности, что мне не ответят и придётся, не отходя далеко от телефонных будок, неопределенное время болтаться. Установленные в районе нашей общаги три телефона-автомата вот уже с месяц виновато смотрят на прохожих. Два с оторванными трубками, а третий являл собой жалкое зрелище, и без содрогания на него смотреть невозможно было. Как трактором прошлись по нему, или разгневанные молодчики кувалдами поработали.
Но нет, ошибся. Прозвучало несколько гудков, раздался долгожданный щелчок, монетка упала вовнутрь аппарата и послышался прерывистый голос:
- Я слушаю.
- Здравствуйте, - запинаясь и волнуясь, начал я,- мне передали ваш номер телефона… и сказали вам позвонить…
- Ты поэт? – перебил меня голос.
- Да, я пишу стихи…
- Отлично. Завтра нас ждут в издательстве “Молодая гвардия”. Мы готовимся, приезжай. Это тот день, который год кормит. Записывай адрес.
- Сейчас, сейчас, только ручку достану, - вконец растерялся я. С трудом отыскал ручку в портфеле, вытащил, не глядя, первую же попавшуюся тетрадь и приготовился записывать.
- Метро «Аэропорт», улица 1-ая Аэропортовская 24, квартира 41. Записал? Приезжай!
- Я уже выезжаю.
- Молодец!
И на том конце бросили трубку.
Я, обескураженный неожиданным приглашением, одной рукой застегиваю портфель, второй придерживаю массивную дверь телефонной будки и выхожу с озадаченным лицом.
Очередь, видя мое состояние, заволновалась.
- Ну что, соглашается!? – злорадно-ехидно пробасил один.
- Не дрейфь, кацо, ты у неё не первый и не последний,- бросил двухметровый, но тощий, как швабра, с большущей головой мужчина, приняв меня за грузина.
- Я армянин, - отпарировал я ему.
- А какая хрен, разница! - загоготал тот.
- Ты не слушай их, иди, иди, - поддержала меня сердобольная старушка и добавила. - Посмотрите, какой он счастливый.
Что и говорить, она была права. Короткий разговор и последующее приглашение от незнакомого человека, да не от рядового жителя Москвы, разнорабочего, там или, в лучшем случае слесаря, третьего разряда, а члена Союза писателей, повторюсь, автора восемнадцати книг. К тому же этот "везунчик" не был избалован подобным вниманием даже со стороны близких людей, и это счастье не могло не отразиться на его, то есть на моём лице. Но я всё ещё пребывал и в полной растерянности - не мог осмыслить состоявшийся разговор. Повинуясь внутреннему инстинкту, я, не спеша, побрел к ближайшей станции метро «Фрунзенская».
Сейчас, по истечении лет, мне трудно передать то состояние, в каком я пребывал, - какая-то легкость, уверенность, целый ряд непривычных для меня ощущений. Я уже понимал, что из телефонной будки вышел совершенно другой человек, и что в моей жизни начинается нечто новое, до сих пор неизведанное.
Свободных мест в вагоне метро имелось предостаточно. Но я не стал садиться и, держась за поручни, мерно покачивался в такт движению вагона, всю дорогу улыбка не сходила с моих губ. Я улыбался неведомо чему, и мне было приятно на душе, хотя и понимал, что со стороны выгляжу, может быть и нелепо.
А вот и станция «Аэропорт», вот она 1-ая Аэропортовская улица, дом 24. Роскошное здание, отметил я про себя, добротная постройка сталинских времен. И действительно, лестничная площадка необычно широкая, потолки высокие, дубовый паркет и резные двери ручной работы. В просторном зале квартиры прямо на стене крупными буквами впечатано двустишие:
«Тот жалок, низок, некультурен,
кого не принял Виктор Урин».
Но это я вперед забежал и описываю, как квартира выглядела, а пока я только добрался до пятого этажа, нажал на кнопку звонка и слышу громкий мужской голос:
- Откройте дверь, к нам кто-то пришел.
Дверь со скрипом отворилась и в образовавшийся проём высунула голову миниатюрная, хрупкая на вид девушка. Она измерила меня с ног до головы и полюбопытствовала:
- Вы к Урину?
- Да, да - поспешно выпалил я, опасаясь, как бы моё долгое размышление в поисках оригинального ответа не обернулось неприятными последствиями, такая дама часами изучать мою физиономию не станет - дверь может внезапно и захлопнуться.
- Проходите, чего уж там, - пропела она устало, слегка покачивая головой и хлопая густо накрашенными ресницами, которые смотрелись как бабочки средней величины, опустившиеся на её белоснежное лицо. Затем она широко распахнула дверь и предложила войти, не освобождая прохода. Пришлось протискиваться в квартиру, стараясь не задеть некоторые выпуклости гостеприимной дамы, в квартиру.
Как я и подозревал, элитная квартира оказалась набитой молодыми людьми и более напоминала производственное помещение. Одни пилили, другие вырезали, третьи клеили. На кухне истерично визжал напильник и при этом раздавался задорный женский смех. Двое студентов, откровенно скучая, слонялись из комнаты в комнату, к месту и не к месту лезли с советами, и, искоса посматривая на Урина, изображали показушную занятость, но остальные добросовестно трудилась.
В коридоре я заметил прислоненные к стене, очевидно, готовые стенды. Но моё внимание отвлекли две кучерявые головы представителей африканского континента, с растопыренными ушами. Обладатели кучерявых волос высунулись из гостиной и, не церемонясь, стали рассматривать меня, хлопая широко раскрытыми глазами, как бы спрашивая:
- А ты чего приперся?»
Я, почувствовав себя неловко, отвернулся в сторону, но в это время откуда-то сзади, как мне показалось, из спальной комнаты, донесся уже знакомый мне мужской голос:
- Все, все, все отдыхаем. Релакс пять минут.
И в проёме двери спальни появился мужчина лет пятидесяти. Увидел меня, неприкаянного, развел руками.
- Проходи, чего же ты стоишь! Девочки, помогите ему раздеться.
Тут же две девушки, словно бы ждавшие отдельного указания, краснея и стесняясь, взялись обслужить нового “волонтёра”. Увидев, как девушки заворковали вокруг меня, он громко распорядился:
- Затем сюда пройдешь, - махнул рукой и исчез за дверью.
Избавившись от своего пальто, я последовал в указанную комнату. На широкой двуспальной кровати с покрывалом из гобелена, покрытого пылью и опилками, лежал огромный стенд, и несколько студентов, облюбовав себе по уголочку на стенде, усердно корпели над ним.
Я уже понял, что этот мужчина лет пятидесяти, и есть Виктор Урин. Я сразу обратил внимание на его неестественно согнутую кисть правой руки.
Спустя несколько дней, Эдмунд Йодковский, поэт - шестидесятник, расскажет мне, что это след от немецкой пули, и что Урин - фронтовик и даже имеет награду, медаль «За отвагу», и что он классный мужик, и процитирует применительно к Урину строчки, на мой взгляд, полные глубокого смысла: «Когда остается одна рука, жизнь хватают наверняка!» И что он в прошлом был женат на волгоградской поэтессе Маргарите Агашиной, авторе более полусотни книг, которая в своём творчестве лишь однажды, и то вскользь, коснулась их совместной, отнюдь не безоблачной жизни, написав вот эти строчки.
...Но не верю ничему. Только сердцу своему. Что творится в этом сердце! А тебе и не к чему.
У тебя тяжёлый нрав - Не помогут сорок трав: Всё по твоему выходит, Ты всегда бываешь прав.
Но я отвлекся.
6.
Вот этот самый Виктор Урин, оценивающим взглядом осмотрел меня и спросил:
- Как зовут тебя?
- Ваагн.
-Отли-и-и-чно, - пропел он, - а теперь смотри, завтра мы в «Молодой гвардии», но ничего еще не готово.
И он, глубоко вздохнул и потряс руками над стендами, выражая свою неудовлетворенность темпами работы:
- Из двенадцати стендов только пять имеют божеский вид. А уже девять вечера. Выбери вон из тех,- он указал пальцем на три незавершенных стенда, - и сам разберешься, что там надо делать. Если что – спрашивай. Хорошо?
- Хорошо, понял, - с готовностью ответил я.
Схватил первый же стенд, пристроился на небольшом свободном столике у окна и стал доводить его до ума.
Тут и понимать нечего. На стендах размещены фотографии, по версии советской власти, прогрессивных зарубежных поэтов, их высказывания, стихи, отрывки из прозы, биографии, автографы и прочее. И лейтмотивом всему этому - штампом впечатанный в каждый стенд - призыв к объединению отмеченных на стендах поэтов и писателей в единое международное образование.
А впрочем, я не стал во все это вникать и не особо задумывался. Главное, у меня появилась возможность прикоснуться к «большой» поэзии, пока в статусе технического работника.
За час работы я сдал "на отлично» стенд и принялся за второй. Тут только я заметил, что ряды добровольцев заметно поредели, то и дело слышался скрип, а затем хлопок закрывающейся двери. А к одиннадцати часам вечера остались мы с Уриным вдвоем. На полу валялись еще три незаконченных стенда, которыми он, к тому же, был совершенно недоволен.
Но Урин устал и с трудом держался на ногах. После небольшой паузы, когда стихли последние голоса, он обреченно спросил:
- Ты торопишься?
- Нет, - ответил я, - надо же эти, - я показал рукою на пол, - закончить.
Урин вздохнул с облегчением и заметно повеселел.
- Ты прав, конечно, – глядя на разбросанные по полу письма, ответил он.
- Виктор Аркадьевич, - все более обретая уверенность, обратился я к нему,- вы мне покажите как надо, разложите снимки и тексты и идите отдыхать, я сам, не спеша, все сделаю. До утра уж точно закончу. А вам ведь завтра еще и выступать.
Урин в знак согласия задумчиво кивнул головой:
- Мне бы с час поспать и все.
- Когда проснетесь, и ладно. Не волнуйтесь, я постараюсь сделать все, как надо. Я уже понял, что вам нужно, - заверил я его.
Он, устало хлопнув меня по плечу, разложил фотографии по стендам и отправился в комнату, не тронутую пронесшимся по квартире разрушительным ураганом под кодовым названием «Подготовка к встрече молодых прогрессивных поэтов с руководством издательства «Молодая гвардия».
К пяти утра я закончил последний стенд и, расчистив двуспальную кровать, не раздеваясь, плюхнулся на нее и мгновенно уснул.
Проснулся в девять утра от прямых солнечных лучей, бьющих в глаза и не сразу въехал, где это меня угораздило уснуть. А сообразив, легко соскочил с постели, обулся, заправил выбившуюся сорочку в брюки.
Первая мысль:
«Неужели проспали, опоздали?!»
Но из кухни доносился запах жареной картошки и бодрый голос Урина. Он, фальшивя и картавя, напевал песню военных лет:
- Бьётся в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза. И поёт мне в землянке гармонь…
Это успокоило меня и я поспешил на кухню.
- Доброе утро, Виктор Аркадьевич, - бодрым голосом обратился я с приветствием к хозяину квартиры.
- Ты знаешь, чем знаменателен этот день? – без вступления заговорил Урин, и, хитро прищурившись, по-хозяйски поставил руки в бока, - Не сегодняшней встречей в «Молодой гвардии», кстати, в «Московской правде» и в «Вечерке» уже есть информация. Это рядовая встреча в творческом плане мне ничего не даёт. Этот день для меня особый - потому, что я с тобой познакомился.
- Есть дети от спермы, - продолжил Урин, - а есть от духа. Так вот ты - мой сын от духа. В твои годы я таким же был! - заключил он и жестом, которому позавидовал бы самый лучший официант в мире, пригласил к столу.
- Мы не опаздываем? - втискиваясь в узкое пространство между столом и стулом, спросил я.
- В десять часов приедет машина от издательства, заберет стенды, Наум Евсеич распорядился, а мы на метро доберёмся. У тебя проездной?
- Нет, но вы не беспокойтесь.
- Разберёмся, - ответил Урин и принялся поглощать картошку.
7. Издательство «Молодая гвардия
Если представить московское метро подземным озером, то мы нырнули у берега «Аэропорт» и вынырнули у берега «Новослободская». А оттуда пешком, напрямую через парк, вышли к элитному респектабельному зданию, в котором располагалось издательство «Молодая гвардия».
Урин по дороге молчал, о чем-то напряженно думал. Пребывая в задумчивости, задавал сам себе вопросы и отвечал на них. Вел с кем-то беззвучный диалог. Предполагалось, что это связано с предстоящей встречей, на которую, как я понимал, он возлагал большие надежды, поэтому я молча шел рядом, пытаясь не отвлекать от обуревавших его мыслей.
Подошли к «Молодой гвардии», Урин легко распахнул дверь и пропустил меня вперед. Вахтёр, увидев нас, тут же отрапортовал:
- Виктор Аркадьевич, я вас приветствую, - и, расплываясь в улыбке, вытянулся по- военному.
- Здравствуй, Коля, рад тебя видеть, этот молодой поэт со мной.
- Какие могут быть вопросы, - продолжая улыбаться, развел руками вахтёр Коля.
- Смирнов на месте?
- Все у него в кабинете, - перешел на шепот вахтер, и интригующе добавил,- вас дожидаются.
Поднялись на второй этаж, а там в фойе вчерашние студенты развалились на мягких диванах. Увидев нас, оживились, вверх взметнулась пара рук, изображая пальцами латинскую букву "V". Кто-то негромко, чтобы избежать внимания работников издательства, прокричал «Ура-а-а-а!»
Урин подтолкнул меня к ним:
- Забирайте Ваагна и не особо шумите. Ждите.
А сам по коридору отправился дальше.
Девушки потеснились, уступив на диване место. Самая бойкая, которую я еще вчера приметил, спросила:
- Долго еще работали?
- До пяти утра.
- И Урин?
- Да, - после небольшой паузы ответил я.
- Ой, сомневаюсь,- покачала она головой и небрежно похлопала меня по колену.
8. Расул Гамзатов
Постепенно разговорились. Естественно, повели речь о творчестве, о поэзии. Я стал осматриваться. Здание и внутри имело респектабельный вид: колонны, раскрашенные под мрамор, бронзовые люстры с канделябрами, на стенах портреты корифеев современной литературы, среди них, прямо напротив нас, портрет живого классика аварской литературы Расула Гамзатова.
Вспомнилось, по Первой программе ТВ пару дней назад показывали документальный фильм о нём, и я решил рассказать о моём впечатлении. Стал соображать - с чего начать, как подступиться, как вклиниться в общий гвалт. Вдруг, мои новые друзья замолкли и обернулись в сторону лестницы, ведущей с первого этажа на второй, - в нашу сторону шел не кто-нибудь, а сам Расул Гамзатович Гамзатов.
- Смотри, смотри, - зашушукали девушки и притихли.
В свою очередь, и он не мог не заметить длинноногих красавиц в коротких ярких юбочках и, чтобы привлечь к себе внимание, проходя по коридору, остановился у своего портрета. Удивился, якобы впервые увидев свой портрет, затем поправил рамку и нарочито глубоко вздыхая и откровенно посматривая в нашу сторону пошёл дальше.
Мы же, продолжали, затаив дыхание, рассматривать эту живую легенду и долго смотрели ему вслед, пока его плотная коренастая фигура не скрылась за поворотом.
Возобновился прерванный разговор, и одна из девушек достала из папки листок бумаги и зачитала свое новое стихотворение, в котором осуждала китайский ревизионизм (в то время сложились напряженные отношения с Китаем). Посетовала на то, что никак не может найти рифму к названию газеты ЦК КП Китая "Жэньминь жибао". Подобно героям рассказа Чехова «Лошадиная фамилия», мы принялись шевелить губами, искать к этому слову подходящую рифму.
Минут через двадцать возвращается Расул Гамзатов и уже издали сверлит глазами нашу компанию, мы все еще копаемся в сокровищнице русского языка, рифму ищем. Я, недолго думая , вскакиваю с места, и подхожу к нему:
- Расул Гамзатович, вы не могли бы нам помочь? - приглашаю его в наш круг.
Он заулыбался, подтянул живот, подошел и уселся в предложенное ему кресло.
Будущие корифеи, оказавшись рядом с такой личностью, как в рот воды набрали, во все глаза рассматривают его, не в силах и слова вымолвить. И полная тишина. Пришлось мне продолжить:
- У нашей поэтессы, - показываю рукой на автора, - проблема с рифмой - не может найти подходящую рифму к слову «Жэньминь жибао».
Гамзатов с удовольствием включился в игру и стал вместе с нами в полуслух шевелить губами:
- Жэньминь - не жми, Жэньминь - не жми, Жибао - же бабу, Жибао – же бабу, Жэньминь Жибао - не жми же бабу, не жми же бабу, не жми же бабу - затем, одаривая студенток обворожительной улыбкой, обратился к поэтессе:
- Ну как, подойдет?
Последовали аплодисменты, и даже крики "Браво!" Расул Гамзатов, довольный удачной шуткой, встал, раскланялся и отправился своей дорогой.
9.
Вскоре появилось руководство издательства вместе с Виктором Уриным. Не замечая нас, они прошли в комнату, где сияли всеми цветами радуги наши стенды. Мы притихли, пытаясь понять, о чем там идет разговор. Донеслась фраза: «Дорога ложка к обеду... Расул Гамзатович ведь ушёл».
«Так вот зачем аварец приходил, наверняка напакостил», - подумал я.
Прошло еще с полчаса утомительного ожидания. Теперь собравшиеся у стендов руководители издательства практически перешли на шепот - понимали, что мы можем стать свидетелями этого необычного обсуждения. Сквозь неплотно прикрытую дверь, мы видели агрессивную жестикуляцию рук - видимо, у чиновников, играющих судьбами писателей так же легко, как клоун жонглирует кольцами и булавами, не хватало цензурных слов. Всё говорило о том, что обсуждение вот-вот грозит выйти за рамки приличия, поскольку, то один, то другой, изображая на лице ужас, хватался за голову, а то и подносил кулак к лицу Урина.
Через несколько томительных минут представители издательства, раскрасневшиеся и расстроенные, стали покидать зал. Последним вышел Урин.
Он подошёл к нам и сел на всё ещё свободное место Гамзатова:
- Все хорошо, - сказал он, - этого следовало и ожидать. Сейчас расходимся. На днях соберемся, будем решать.
В это время вернулся один из участников обсуждения, подошел сзади к Урину, положил руку ему на плечо и наклонился к уху.
- Витя, я тебя очень прошу, позвони Луконину, поговори с ним.
- О!!! В ход пустили тяжёлую артиллерию,– загоготал Урин.
Мы рассмеялись, не понимая, о чем идёт речь, но сочли своим долгом поддержать нашего лидера.
- Вася, - торжественно и громко заявил Виктор Аркадьевич, - мы с Мишей, с Лукониным, воевали вместе, Вася!
- И всё же он ждёт твоего звонка.
- Я позвоню, но только завтра. Нет, я поеду к нему. Я хочу ему при этом в глаза смотреть. Ты будешь звонить ему?! Вот и передай, что завтра я у него буду.
Несколько минут посидели, молча, затем Урин, уже став прежним - уверенным и решительным - сказал:
- Ну что ж, диалог продолжается. Значит, договорились - пока расходимся, а в субботу - ко мне. Будем обедать.
Наташа, так звали приглянувшуюся мне девушку, подошла ко мне.
- Ты на метро?
- Да, - покорно ответил я.
10.
Чтобы читателю было легче въехать в сложившуюся обстановку, я позволю себе добавить ещё несколько штрихов к портрету Виктора Аркадьевича Урина.
Поэт-фронтовик, поэт-новатор, король импровизаций и экспромта и, наконец, поэт от Бога. Скорости его поэтического мышления завидовали многие привилегированные, обласканные властью поэты. Например, Евгений Евтушенко откровенно восхищался и цитировал уриновское стихотворение «Лидка»:
Было, Лидка, было, а теперь – нема… Все позаносила новая зима. Оборвалась нитка, не связать края… До свиданья, Лидка, девочка моя.
А Андрей Вознесенский, однажды, с восхищением воскликнул:
«Виктор – Эра! Век тореро!» И низко поклонился.
И, чтобы расставить все точки над «i» и развеять сомнения, напомню вам о том, что именно Урин стал одним из соавторов политической песни «Дружба-Фройндшафт» в честь Советско-Германской дружбы:
Нас ведут одни пути-дороги! Так народы наши говорят. Клич звенит от Одера до Волги: «Дай мне руку, друг мой, Kamerad!»
Дружба-Freundschaft, дружба-Freundschaft… и так далее
Как известно, эту песню Леонид Брежнев с Эрихом Хонеккером неоднократно исполняли, взявшись за руки, на самых высоких форумах, именуемых Съездом коммунистической партии Германской Демократической Республики, преимущественно в столице ГДР, Берлине, куда Леонид Ильич регулярно приезжал, чтобы иметь возможность в очередной раз и песенку спеть и прилюдно пооблызаться с камэрадом Эрихом.
Вместе с тем, нужно отметить, что Урин обладал неординарным и противоречивым характером. Достаточно сказать, что за всё время общения с нами, он ни разу не вспомнил ни своих друзей-знакомых из прошлой жизни, ни своих близких и родных, ни детей, хотя к нам, ровесникам его отпрысков, проявлял отеческую заботу. Вчерашний день, со всем произошедшим и всеми теми людьми, принимавшими в нём участие, для него как бы уже не существовал.
Но, я отвлекся.
11.
Вся загвоздка состояла в том, что в литературных кабинетах кресел на всех не хватало, да и сама борьба за них отличалась особенным упорством. Ведь за каждым местом расчетливая власть закрепляла ряд привилегий, а потому каждое место привлекало к себе немалое число воздыхателей. Так уж вышло, что поэт, казалось бы, идеально соответствующий по всем параметрам на одно из этих кресел, вынужден был, образно выражаясь, творить стоя, в то время, когда другие сотоварищи по литературному цеху, имели возможность смачно дымить папиросами, развалившись на этих самых предметах из дорогого мебельного гарнитура.
Именно Урин и оказался не у дел, даже профоргом не взяли, тому тоже кабинет положен. Тут бы с горечью и изречь: «Обидно, да !!!».
Однако, он не стал этого делать. Урин даже и воскликнул бы, если бы помогло, но он являл собой редкое для лирика, сочетание реалиста и прагматика, и поэтому восклицать да восхищаться отказался. (Помните, у Окуджавы: «Давайте восклицать, друг другом восхищаться…») А он даже наоборот, вскинув по-ленински руку, в точности повторил слова Владимира Ильича. Кто забыл, напомню: «Мы пойдем другим путем!».
Забегая вперед, отмечу, что слова Владимира Ильича оказались плохим пророчеством. Всё человечество двигалось в одну сторону, а мы, все семьдесят лет, шли и шли другим путем.
Доверились бы ещё одному - Ивану Сусанину- больше бы пользы было. На полпути сообразили бы, что не в ту сторону путь держим, надавали бы тумаков незадачливому проводнику и вышли бы на правильную дорогу, а то шли и шли… Ведь куда пришли, помним очень даже хорошо.
Но, я опять отвлекся.
И Виктор Урин решил, раз кресел в литературном сообществе на всех не хватает, самому себе создать кресло, торжественно воссесть на этот престол, и занимать его, пока не надоест. Родилось и подходящее название: Интернациональный клуб «Глобус поэтов», то есть мы. И мы начинаем (подумать только!) строительство Олимпийской антологии мировой поэзии. Во, куда замахнулись!
В члены этого клуба попали молодые и темпераментные, в основном, как особо привилегированная каста, зарубежные студенты из Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. От нашей страны в состав президиума вошли два избранника: Василий Брусилин, с Урала и я (ваш покорный слуга) из Армении. Среди иностранных студентов особое усердие проявляли Бадрул Хасан Баблу из Бангладеш, Роберт Кваши из Того, Субхи Курди из Сирии, Лауриу Родригес де Батиста из Бразилии и хрупкая, тоненькая, как тростиночка Марьяна Мартинес с Кубы.
Но и Виктор Урин, несмотря на ранение и зрелый возраст, тоже обладал не меньшим темпераментом и юношеским задором.
И письма, адресованные прогрессивным поэтам и писателям, помчались во все концы нашей планеты. В тех письмах отмечалась необходимость объединить усилия во имя мира и прогресса на земле, во имя спасения, в конце концов, всего человечества. Предлагалось периодически - по принципу олимпийского движения - встречаться, проводить форумы, чтобы отчитываться о проделанной работе.
Зарубежные писатели и поэты получали подобные письма, и им даже не приходило в голову, что эта акция не санкционирована советским государством, а есть всего лишь личная инициатива одного одиозного поэта, а нашим советским писателям, приученным по струнке ходить, и тем более. И поэтому писательская братия в предвкушении приятного времяпровождения на этих самых форумах, дружно и с особым вдохновением засыпала Урина ответными письмами, одобряя это начинание. Урину выразил своё восхищение и широко известный, во всяком случае в СССР, кубинский поэт, лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» Николас Гильен. Так вот с его письмом Урин долгое время, как со знаменем, носился по кабинетам.
А остальные письма-отклики нашли свое отражение в изготовленных нами, с особой добросовестностью, стендах.
Но Урин здесь допустил стратегическую ошибку. Если бы он поделился с руководством Союза писателей своей идеей, то без сомнения его бы поддержали, внесли бы в план работы, его бы и назначили ответственным. Ещё и ежемесячно стружку снимали за медленное выполнение, нарушение, так сказать, графика. Но он решил потешить свое “поруганное” честолюбие иным путём, принудить капитулировать литературное руководство перед армией зарубежных лояльных к советскому режиму, а потому считавшихся прогрессивными, поэтов и писателей. И пошёл напролом. Но он не учёл одну особенность того времени - это в войну можно было идти напролом, рискуя жизнью, поднимать роту, идти в атаку. Тогда разрешалось. Теперь же он, по простому говоря, своим натиском напугал старших товарищей по возрасту и регалиям грандиозными планами, к тому же не контролируемыми Союзом писателей, а вы, читатель, берите выше - Советской властью.
12.
Вторым этапом в его до мелочей продуманной кампании стал поиск свободных, не закрепленных за конкретными лицами, или не используемых ими, кабинетов.
И здесь он сфокусировал свое внимание на издательстве «Молодая гвардия». Видимо, кто-то шепнул ему на ушко, что в этом, вызывающем уважение своей необычной архитектурной планировкой здании, есть кабинеты, которые месяцами не видят своих владельцев, попросту не используются и, чтобы не несло откровенной плесенью, раз в неделю уборщица стряхивала пыль с роскошных вальяжных кресел и на рабочих столах, в очередной раз переставляла местами чернильницы, ручки, карандаши и всякую утварь, вносила небольшие изменения, по своему разумению создавала рабочую обстановку.
И Урин решил поднажать на начальство, убедить, может, и подсластить при надобности, чтобы заполучить права на ключи от… так и просится написать “от города”, но нет - пока только от кабинета, съедаемого пылью, влачившего безрадостное существование от невостребованности и одиночества.
Ключи от кабинета являлись частью большого стратегического плана, ведь простое кабинетное кресло, как ни крути, а делает его обладателя про-государственной личностью. Одно дело, назначать место встречи в кафе и рассуждать о перспективах покорения вселенной, другое - сидя в кабинете.
И Урин разложил стенды пред очами высокого начальства, руководителей "Молодой гвардии", и еще нас привлек, для убедительности, намереваясь наглядно продемонстрировать - какая огромная и кропотливая работа ведется во имя мира и прогресса и, наконец, во имя спасения всего человечества, и под это дело вытребовать для себя возжеланное.
Неофициальным владельцем одного из кабинетов являлся пользующийся особым расположением руководства “Молодой гвардии” Расул Гамзатов, кабинет которого, как правило, пустовал. Вот его-то по этому поводу и пригласили. Он, когда понял, о чем речь идет, вскинул гордые кавказские брови и стал на пальцах объяснять, что ему крайне необходима келья еще и в этом районе города Москвы и вот почему.
- Я,- стал перечислять он, загибая пальцы, - являюсь:
Депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР;
Заместителем Председателя Верховного Совета Дагестанской АССР;
Депутатом и членом президиума Верховного Совета СССР;
Несколько десятилетий был делегатом писательских съездов Дагестана, РСФСР и СССР;
Членом бюро солидарности писателей стран Азии и Африки;
Членом Комитета по Ленинской и Государственной премиям СССР;
Членом правления Советского комитета защиты мира;
Заместителем Председателя Советского комитета солидарности народов Азии и Африки.
Он перевел дыхание и продолжил.
Я - депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 6-11 созывов от Дагестанской АССР;
Лауреат Ленинской и Сталинской премии;
В 1962—1966 годах и в данное время - член Президиума Верховного Совета СССР;
Действительный член Петровской академии наук и искусств.
И в заключение добавил:
- У меня каждый год по две книги выходит, и нет ни одной аварской семьи, у которой на полках не стояли бы, как меня заверили в редакции газеты «Аварский комсомолец», хотя бы три из моих замечательных книг. Меня печатают на всех языках народов СССР, в том числе и на армянском, (он это особо подчеркнул)!
А в прошлом году , - здесь он поднял указательный палец правой руки вверх и, хитро усмехаясь, осмотрел присутствующих, - я подписал гневное письмо вместе с группой честных советских писателей в редакцию газеты «Правда» в адрес отщепенцев Солженицына и Сахарова;
К тому же я член правления Советского комитета защиты мира.
Сообразив, что повторяется, он сбился, перестал перечислять и загибать пальцы, просто гордо осмотрел застывших в растерянности руководителей издательства и победоносно покинул помещение, не удостоив и каплей внимания нашего Урина.
13.
На следующий день, во время перерыва, к нам в аудиторию заглянула зам. декана Валентина. Стоя в дверях, она, привстав на цыпочки, отыскала меня глазами, и этак небрежно кивнула головой, что означало, нужно срочно покинуть сие помещение и предстать перед вышестоящим начальством. Не понять этот красноречивый жест было сложно, к тому же одна из студенток, Никанорова Наташа, еще и прокомментировала. Она с сомкнутыми губами, чтобы не засветиться, насмешливо посматривая в сторону двери, сквозь зубы процедила:
- Карапетян, на выход.
Её подруга понимающе ухмыльнулась. Я, не въехав, чем обусловлено это ёрничество, прервал на полуслове очередной анекдот про армянское радио и послушно направился к выходу.
- Был у Урина ? - выказывая нетерпение, спросила Валентина.
- Да, спасибо вам, это такой необычный человек, гигант, такие у него планы…
Но нарастающую волну моего восхищения состоявшимся знакомством Валентина резко погасила:
- Сейчас некогда, после третьей пары зайдешь, расскажешь. Хорошо?
Я подобострастно закивал головой:
- Хорошо, зайду.
После шестой лекции я, влекомый общим потоком, позабыл о Валентине и, погрузившись в свои мысли, не заметил, как оказался на троллейбусной остановке. Там, в ожидании троллейбуса, и вспомнил об обещании зайти в деканат. Пришлось вернуться.
Робко постучал в дверь и нерешительно стал ее открывать. Зам. декана сидела одна за рабочим столом и что-то перебирала. Бросилось в глаза её модное пальтишко на обычно переполненной вешалке.
- Заходи, заходи, - радостно посмотрела на меня Валентина, - сейчас освобожусь...Чай будешь? - не глядя в мою сторону, продолжая перебирать листочки, спросила она.
- Спасибо, не надо.
- Какое спасибо, вон возьми чашку, сам за собой поухаживай, чай горячий и чебуреки есть, на второй полке в красной кастрюле.
Я не заставил себя долго упрашивать, тем более что уже слышал ароматный, умопомрачительный запах свежеиспеченных чебуреков. Налил себе чай, размешал сахар и, предвкушая огромное наслаждение, надкусил сочный и горячий чебурек и, урча от удовольствия, начал его медленно с упоением прожёвывать.
Попытался было одновременно начать свой рассказ, но Валентина махнула рукой:
- Ешь, потом расскажешь. И, глядя с каким удовольствием , я уплетаю чебурек, заулыбалась. - Возьми еще, а остальные заберешь с собой в общагу, вечером поужинаешь.
- Спасибо,не надо, - стал я отнекиваться.
- Да перестань, - отрезала Валентина, - что я, студенткой не была?!
Я съел два чебурека, потянулся за третьим, но вспомнил, что мне обещаны все чебуреки, и я успею ещё их съесть, тотчас же отдернул руку и стал не спеша допивать уже остывший чая.
Валентина закончила перебирать карточки, аккуратно сложила их в одну стопку. Спрятала в сейф и, оперевшись о потертое кресло, на котором еще местами угадывался бархат вишневого цвета, с нескрываемым удовольствием осмотрела меня.
- Я вам очень благодарен, это такое везение, слов нет. У него такие гигантские планы, и самое главное - мы подружились… начал я свою заготовленную речь.
- Вот и хорошо, - Валентина закивала головой и нечто вроде скептической ухмылки промелькнуло на её губах, - я рада за тебя.
Затем встала, схватила деревянную табуретку и решительно направилась к двери. По пути убрала с черного кожаного дивана две папки, закинула их на полку с книгами. Резким умелым движением вставила ножку табуретки в дверную ручку, этим самым намертво пригвоздив дверь. Затем, глядя с вожделением на меня , нащупала на стене трехклавишный выключатель, поочередно нажимая на клавиши, погасила все лампочки и, стягивая с себя блузку, направилась ко мне...
14. Наталья Лазарева
Лишь спустя полтора часа я, очумелый и изнеможденный от... усталости, но донельзя счастливый, вновь оказался на троллейбусной остановке. Еще не успел я занять очередь, как на меня налетела однокурсница Лазарева Наталья.
Эта особа являлась одной из последних, если не самой последней представительницей древнего армянского рода в Москве, прародители которой осели в столице еще с наполеоновских времен. Ее отец, Владимир Георгиевич, работал в Министерстве обороны и занимал высокую должность советника министра обороны Андрея Гречко.
Родители благожелательно относились ко мне, может быть, и с определенной целью, кто знает, но я слишком, прямо скажем, был глуп в ту пору. Такое понятие, как “брак по расчету”, то есть - иметь не только реальную возможность улучшить свои бытовые будни сегодня, но и обеспечить себя до старости беспечной и вполне презентабельной жизнью- мне тогда и в голову не приходило.
Хотя Наташа и собою была хороша, и даже красива, - о чём тут говорить. Работали бы мои мозги получше, я бы понял, что это и есть моя судьба, но увы…
Я до сих пор не знаю, сколько комнат имелось в их элитной двухъярусной квартире. Они жили втроём, общее число дверей превышало количество обитателей в три, а то и в четыре раза.
Меня приглашали, как правило, в гостиную, иногда бывал в кабинете Владимира Георгиевича и на кухне. А остальные двери куда вели, и сколько их было, до сих пор понятия не имею.
Помню восторженные реплики наших преподавателей, когда они заставали нас вдвоем коридоре.
- Ой, какая пара, как хорошо вы смотритесь!
Но мне все это до лампочки было. Не могу сказать, что нас не тянуло друг к другу, но мы часто ссорились по пустякам. Ведь и она находилась в центре внимания, в фаворе, так сказать, у ребят, и я не на обочине валялся, не был обойден этим же отношением со стороны ее подружек и однокурсниц, благо на нашем потоке меж ста двадцати девушек всего лишь пятеро ребят затесалось.
Наташа налетела на меня, как коршун, какая-то озлобленная, сердитая.
- Где это тебя носит, я уже два часа тебя ищу!
- Не понял, - в свою очередь возмутился я, - вот дура! Чего это я перед тобой отчитываться должен?
- Сам дурак, выбирай выражения. Где тебя носит?
- Тебе-то что? Что это с тобой? – продолжаю я ерепениться.
- Мама сказала, чтобы ты к нам приехал, она армянскую долму приготовила. Строго-настрого наказала, чтобы я без тебя домой не возвращалась.
- Но я впервые это слышу, - изумился я.
- Да, забыла сказать,- Наташа виновато посмотрела на меня, пытаясь сгладить возникшую неловкость, - а вспомнила только на остановке, но вижу, и ты в очереди. Ладно, думаю, в троллейбусе сообщу, но ко мне эта Галя, зараза, как банный лист прилипла и тараторит, и тараторит. Ты в очереди впереди стоял, решила в троллейбусе подойти, только смотрю: троллейбус тронулся, а ты куда-то уходишь...Мама, моя! Я на следующей сошла, и за тобой, все корпусы обскакала. В библиотеках побывала. Куда ты пропал!?
- Да дело было одно, пришлось вернуться, и задержался, - стал я отнекиваться, но, судя по выражению лица, Наташа не очень-то в это поверила.
- Ну, так едем?
- Дай твой портфель подержу, тяжелый он, - по-хозяйски ответил я ей.
15. Чебуреки
- Ваганчик, дорогой, я рада тебя видеть, - такими теплыми словами встретила нас тётя Вероника, Наташина мама. Меня всегда обезоруживала её искренняя улыбка и щедрое гостеприимство.
- Раздевайся и проходи, дорогой, - тетя Вероника рукой показала в сторону гостиной, - сейчас стол накрою и позову. Я, обласканный тёплыми словами, чувствовал себя, как дома, привычно разулся и прошел по коридору в гостиную. На журнальном столике лежали несколько номеров элитного журнала «Америка». Взял верхний, с портретом президента Никсона и стал нехотя рассматривать его.
В дверях появилась Наташа:
- Ты сегодня конспектировал логику?
- Да.
- Могу посмотреть?
- В портфеле, там желтая обложка.
Вдруг слышу удивленный возглас:
- О! Смотри-ка, у него чебуреки есть! Домашние! Откуда это у тебя?
Опять в дверях появилась Наташа, теперь уже с завернутыми в писчую бумагу чебуреками.
Фу! Час от часу не легче. Я стал лихорадочно соображать, как объяснить историю появления в моем портфеле лучшего лакомства московских студентов.
- Неужто сам приготовил?
- Ну да.
- Что-о-о-о! - это тётя Вероника не выдержала и, громко выражая свое изумление, вошла в гостиную.
- А ну рассказывай, как ты их готовишь? Что добавляешь в тесто?
- Ну-у-у-у… Вам весь процесс рассказать? Но-о-о-о, я это в секрете держу.
- Ха-ха-ха, посмотри на него. Сейчас разберемся, можно попробовать?
Тётя Вероника взяла один чебурек, откусила.
- Все понятно. Мука и вода и никаких добавок. Какой ты у меня умничка. Дай-ка я тебя поцелую.
Она подошла, проворно наклонилась, поцеловала меня в лоб и, продолжая мною восхищаться, удалилась.
Чтобы как можно скорее сменить пластинку, я попросил разрешения у Наташи позвонить.
- Сейчас принесу, - бодро ответила она, продолжая смачно жевать на ходу и раскачивая головой от удовольствия. Мне же оставалось лишь с тоскою наблюдать, как она поглощает один за другим мои, припасённые на вечер, чебуреки.
Наташа исчезла в кабинете старшего родителя и через пару минут вернулась с телефонным аппаратом на длинном проводе. Тут я сообразил, что действительно надо бы Урину позвонить. Поинтересоваться, был ли он у Луконина?
Урин тут же ответил, словно бы ждал моего звонка.
- Виктор Аркадьевич, здравствуйте, это Ваагн беспокоит.
- Кто?
- Ваагн.
На том конце провода - тишина. Очевидно, соображает, из какой оперы высветился этот Ваагн. «А говорил, от духа рожден»,- подумал я.
Но вот Урин разобрался, вспомнил:
- Ты где сейчас? – чуть ли не вскрикнул он.
- У знакомых. Виктор Аркадьевич, вы планировали к Луконину сходить.
- Вот я завтра собираюсь. Я хочу, чтобы ты тоже подъехал. Во сколько твои занятия заканчиваются?
- Завтра в три, а вообще по-разному.
- Можешь за час до ЦДЛ - (Центральный дом литераторов) доехать? Это Большая Никитская, 53.
- Могу, адрес я знаю, Виктор Аркадьевич.
- Завтра в 4 часа я тебя жду.
- Понял, буду, - повеселев, бодро отчеканил я.
Положил трубку и услышал голос тёти Вероники:
- Дети мои, обед на столе. Но сначала мыть руки.
16. Михаил Луконин.
- Витя, ты, что обалдел? Я в ужасе! Аня, как услышала, так ей плохо стало. Пришлось неотложку вызывать. Я серьезно, Витя. Кончай ты этот балаган. Все! Завязывай!
- Вы же сами меня на обочину спихнули. Не надо на меня теперь. Ты еще не такое услышишь, мало не покажется. Два года моя книга висит, а у тебя каждый год по двухтомнику выходит.
- Умоляю, не впутывай ты меня в это дело.
- Как не впутывай, это твоя прямая обязанность. Вот ты и разберись, позвони.
Михаил Луконин обреченно вздохнул, поднял трубку и принялся накручивать диск телефона.
- На память номер помнишь, - раздражаясь, стал подначивать Урин.
- Ты у меня один что ли? Приходится каждый день названивать. Алло !
- Добрый день, Сергей. Что там у вас с Уриным?.. Второй год вроде...Сколько?.. Ну, урежьте!..Так что ему передать?.. У меня сидит вот... Хорошо... И впредь внимательнее будьте к фронтовикам, обожрались вы там совсем... Ну, ну рассказывай ! Хи-хи, да не может быть... Да пошел ты…!
Луконин положил трубку, нарочито не глядя на Урина, переложил пару папок с места на место. Из одной папки достал потрепанный блокнот. Поплёвывая на пальцы, перелистал его, пару раз прошёлся от начала до конца, наконец, уткнулся в одну страницу. Выписал из нее пару строк и только затем откинулся на спинку кресла и устало посмотрел на фронтового товарища:
- Ты слышал? В план третьего квартала внес. Он тоже сука порядочная. А что делать? Вот и приходится с такими…
- Третий квартал, говоришь? - Виктор Урин покусывая губы неприятно смотрел на Луконина, затем ухмыляясь сказал, - так второй еще не начался.
- Ну, Витя, тебе не угодишь, хватит, слушай - не борзей,- Луконин поморщился, - кстати, помог бы ты мне. У тебя там молодняк вертится… Мне дачу выделили, нужно книги перевезти, послал бы пару ребят. Можешь?
- У тебя же есть дача.
- Я же сказал, переезжаю. Николая Семеновича освободилась, мне предложили.
- А что он ?
- О! Ему правительственную отвалили на Воробьевых горах. Было время - Косыгин там проживал.
- А почему не тебе, ты и рангом не ниже и вообще…
- Ой, Витя, спасибо и на этом, - отмахнулся Луконин.- Так можешь помочь?
- Позвони вниз, там мой товарищ, студент, пригласи его.
Луконин тотчас же поднял трубку внутреннего телефона и небрежно рявкнул:
- Петрович, там у тебя должен быть... - отвел трубку в сторону,- как фамилия?
- Карапетян.
- У тебя там Карапетян должен быть, молодой человек, пропусти его ко мне. И подскажи, куда идти.
- Здгавия желаю, Кузьмич! Послушай мене, Кахапетян говохите ? Есть тут один ахмян, вгоде он.
Вахтер обернулся ко мне:
- Ты Кахапетян?
- Да.
- Он самый, Кузьмич, я ему сейчас объясню, как до твоего кабинета добгаться. Не беспокойся.
- А ну, сюды иди, - махнул мне рукой вахтер Петрович, - Михаил Кузьмич тебя к себе вызывает. Я тебе так скажу, - заговорщически полушепотом закартавил Петрович, - Кузьмич - вот такой мужик, вот такой, - для убедительности Петрович поднял большой палец правой руки вверх и энергично потряс, - я его очень уважаю, и он меня уважает, чуть что, так схазу ко мне. Я ему всегда помогаю, хагактех у меня такой. Я в отца своего пошёл, он у меня тоже покладистый был. Так что, если надо, обхащайся,чем смогу – помогу. Когда я на Металлогежущем заводе на вохотах стоял, так ко мне даже зам. дигектоха обгащался. Вот так-то! Ну иди.
- Вы бы объяснили, куда…
- На тхетий этаж подымись, а там газбехешься. Кузьмич - вот такой вот мужик! - услышал я вслед.
Я, озадаченный неожиданным приглашением, теряясь в догадках что происходит, и зачем им понадобился, не стал дожидаться лифта, легко пробежался по лестницам, на третьем этаже сделал пару лихорадочных движений по коридору, и оказался перед дверью с табличкой
“М.К.Луконин Секретарь правления СП СССР”.
Открыл дверь. Напротив, у окна сидит лучезарная девица вся из себя с маленьким зеркальцем в руках, брови выщипывает. Хотел было сострить: «Мол, это вы М.К.Луконин?» Но не стал, не рискнул. Взглядом показав на боковую дубовую дверь, робко спросил:
- Мне сказали подняться… к вам.
Девица, не глядя и не отрываясь от своего занятия, кивком головы дала добро, мол, двигай налево.
Иду к двери и чувствую, как от волнения поджилки трясутся и ноги слабеют, не могу твердо ступню поставить. Неприятное, незнакомое состояние.
Осторожно открываю дверь. Захожу. Хозяин кабинета исподлобья смотрит на меня, и в спешном порядке пытается суровый взгляд трансформировать в нечто похожее на улыбку.
- Здравствуйте, - говорю я и, не получив ответа, продолжаю, - мне сказали к вам подняться.
- Ваагн, тут вот какое дело, - обращается ко мне Урин. - Мише помочь нужно, книги перевезти. Можем это организовать?
- Пожалуйста, - я радостно киваю головой, - только скажите день, куда и когда подъехать. Я начал ровно дышать, развёл плечи и спину выпрямил.
А Урин заёрзал на месте и торжествующе посмотрел на фронтового товарища.
- Решай, Миша!
- Один не справится, - не глядя ни на меня, ни на Урина, произнёс Луконин.
- Можешь пару ребят привлечь? - спросил меня Урин и обернулся к Луконину:
- Сколько тебе надо?
- Хотя бы еще двоих, а то за день не управятся. Ты помнишь мою библиотеку?
- Откуда? Я у тебя никогда и не был.
- Да, да, - Луконин поморщился, - я с квартирой спутал.
- Успокойся, я и на квартире никогда не был. Еще двоих достаточно?
- Ну! - выражая удовольствие, кивнул головой Луконин.
Вот здесь -то Луконин и принимает волевое решение обратить на меня внимание и заговорить со мной:
- В четверг, с утра, к девяти, сюда с ребятами подъехать сможешь? Отсюда на служебной поедем.
- Хорошо, - как можно увереннее отвечаю я, и настроение поднимается, да настолько, что впору бы на радостях и в пляс пуститься.
- Вот и чудно, договорились, - прерывает наш диалог и поднимается с места Урин и добавляет:
- Ваагн, обожди меня внизу, я через пару минут спущусь.
Вышел я и тут только почувствовал, что весь взмок. Достал носовой платок и старательно протер влажную шею. Платок впитал в себя обильные ручейки пота, стал мокрым, хоть выжимай. Кончиками пальцев сложил его вчетверо, спрятал в портфель, в свободное от книг отделение и, не спеша, спустился на первый этаж, в фойе. Сел на угловой диван без подлокотников, закрыл глаза и размяк от навалившейся усталости.
Стал думать, кого бы из ребят забрать к Луконину. То, что желающих найдется немало, я и не сомневался, еще и в обиде останутся, мест-то всего два, не потащу ведь за собой целую роту. Он ведь прямо сказал, что на служебной поедем, очевидно, поэтому троих и попросил. Кого выбрать-то? Обиженные появятся, это точно. Может быть, условие поставить, чтобы не особо трепались? Нереально. Вот удивятся ребята. Степа, Сергей, Володя да и Дима не прочь… У самого Луконина! Это ж надо?! А девочки? И они захотят. Если они обидятся, то это надолго. И Маша, и особенно Лариса. Да, есть над чем подумать. Вернусь в общагу, там видно будет, - так и не определившись, решил я.
В конце коридора появился Урин.
- Ваагн, идем, - замахал он руками и, не дожидаясь меня, направился к дверям.
У автобусной остановки Урин злобно выругался:
- Ублюдки, мать вашу,.. еще посмотрим, - затем обернулся ко мне:
- Не подведи, подъедь с друзьями, там на час работы. Я предупредил, чтоб вас накормили. Пусть Аня похлопочет.
- Это вы зря, Виктор Аркадьевич, лишнее это, - стал я отнекиваться.
- А как же?! – возмутился Урин.- Только так и никак иначе, пусть стол накроет. Не убудет…
Расстались мы на станции «Белорусская». Он пересел на зеленую ветку до станции «Аэропорт», а я по кольцевой - на «Проспект Мира».
17. Волонтёры
Захожу в общагу, а в фойе, прислонившись к телефонной будке, о чем-то спорят Володя и Сергей. Володя вроде упирается, а Сергей пытается его в чём-то убедить. Как всегда: Сергей излишне напорист, а Володя, наоборот, очень осторожен. Даже когда собираемся в кино, либо пикник организовать, с Володей проблемы возникают. Все ему не так и не этак.
Приближаюсь, один - белый от возбуждения, другой - красный по той же причине.
- Чего не поделили? - уверенным голосом встреваю я.
- Ну его! - махнул рукой Сергей и бросил уничижительный взгляд на Володю.
- Сергей, отвлекись, - решил я не тянуть, - слушай, есть дело. Я только что от Луконина. Поэта.
- Это он про пустой рукав писал?
- Да, но стихотворение хорошее, чего это ты.
- Допустим. И что с ним? Умирает?
- Переезжает?
- Поздравил бы от нашего имени.
- Кончай умничать.
- Ну вот, и этому не угодил, - притворно обиделся Сергей.
Я понял, что разгоряченные упрямцы на другую тему сейчас переключиться не в силах и решил плыть по течению, присоединиться к предмету их спора.
- О чем это вы? С чем Володя не согласен?-
- Я ему говорю: надо поздравить, а он - ни в какую,- стал пояснять Сергей.
И этим самым вконец меня озадачил, - Кого поздравить-то?
- Как кого?
- Ну, кого поздравить, а Володя - ни в какую?
- Что сделать?
- Поздравить ты же сказал.
- Ну да, а он - ни в какую.
- Володя, кого поздравить, о ком речь идет? – не выдерживаю я болтовни Сергея.
- Ты у него спроси. Если шариков не хватает, таким уродился, я тут при чем?
- Сергей, кончай базар. Кого поздравить?
- Ну, ты и непонятливый. Как кого? Луконина, сам же сказал, что поздравить надо.
Меня как током шарахнуло:
- А знаешь, прав Володя, не мешало бы тебе пару шариков добавить.
- И пошутить нельзя, - пошел на попятную, довольный своей плоской шуткой Сергей.
- И сам ты дурак, и шутки такие же,- вскипел я. - Ладно, тут вот какое дело. Луконин с дачи съезжает, нужно помочь книги уложить в коробки и на другой даче по полкам расставить, ему новую выделили.
- Говоришь, переезжает.
- Ну, да.
- А сколько книг у него?
- О-о-о! У него солидная библиотека.
- Так сколько же?
- Тысяч пять наберется, - наобум ответил я.
- Сколько дает?
- Что дает?
- Ну, за работу сколько обещал заплатить? Меньше трешки не согласен.
- Как заплатить? - растерялся я.
- А ты решил, что я задаром на кого-то батрачить пойду? И Володя не пойдет!
- Ты понял хоть о ком идёт речь?
- Ваагн, пошел он на хер. Только не обижайся. Он денежки лопатой гребет. В любой библиотеке его книги на полках метра полтора занимают, ты понимаешь, что это значит?
- Нет, не понимаю, пару дней назад ты ныл, что так и останемся на задворках, пока не выйдем на элиту, а теперь, когда такая возможность появилась, ты артачишься?
- Вот пойду батрачить, - занервничал Сергей, - так батраком для него и останусь. Ничего не изменится.
Я обернулся к Володе, а он молчит, но нет сомнения в том, что он солидарен с Сергеем.
- Ладно, ребята, пока, - я устало махнул рукой и поднялся к себе в комнату. Сбросил обувь и, не раздеваясь растянулся на кровати.
Совсем не ожидал я подобной реакции Сергея. Что нашло на него? Не с той ноги, видимо, 151-ый день 4-ого года 9-ой пятилетки начал.
18.
Минут через пятнадцать зашел на кухню, поставил чайник. Вдруг слышу за спиной негромкое покашливание. Повернул голову: Дима с соседнего потока в трусах, майке и громоздких ботинках на босу ногу стоит рядом и бесцеремонно меня разглядывает, а с него так и прёт хорошее настроение, весь сияет. Поприветствовали друг друга.
- Чего это ты такой бодрый? - спрашиваю.
- Какое там?! - поморщился он, - Машку только что проводил. Весь день в постели провалялись. Сил нет.
- Так вы поженитесь или разбежитесь?
- Не думаю, каждый день ссоримся.
- Понятно. Дим, я был у Луконина… да, да того самого. Не хочешь с ним познакомиться? Ему помочь надо книги перевезти.
- Переезжает?
- Дачу меняет.
- Пусть грузчиков наймет, на любом вокзале полно их.
- Я это к тому, что есть повод познакомиться.
- Допустим, познакомились, а дальше что? Если мне надо будет, в любой библиотеке встречи с писателями проходят, пригласительные билеты насильно предлагают. Пойду и познакомлюсь. Только я сам чувствую, что мне показывать еще нечего, сырой пока.
- Напрасно ты так. У тебя есть классные стихи. Не хуже чем в «Юности» печатают.
- Спасибо, конечно, но это только твое мнение,- улыбнулся Дима, - ну, бывай, я спать пошел.
Вышел я с горячим чайником, иду по коридору, мысленно перебираю имена ребят и девушек из литобъединения нашего факультета. К кому бы постучаться, думаю. У самой двери в свою комнату наткнулся на второкурсников Васю и Федю. Это крепкие коренастые ребята из города Петушки Владимирской области, которых мы за глаза петушками и зовём. Они стихи не пишут и даже не читают, но работяги, на всех субботниках за троих вкалывают.
- Ребята, подработать хотите?- неожиданно для самого себя, выпалил я.
- А чего там? – притормозил Вася.
- Книги надо перевезти с одной дачи на другую. Дают по трояку.
Федя восторженно поднял вверх оба указательных пальца:
- Мы это одобрям-с, можно попробовать.
- А когда?
- Послезавтра с утра.
- Мать мне денег не выслала, - приободрился Вася и глубокомысленно добавил, - так что годится, в самый раз.
- Только ты больше никому не говори, - встрепенулся Федя, - мы готовы.
- Учти, мы работяги, - стал наставлять Вася, - если тех хлюпиков наймешь, сам не рад будешь.
- Да я вас с утра ищу,- заверил я крепышей, - так что, замётано. Значит, в четверг в семь ноль-ноль я за вами зайду.
- По рукам, - оживились “петушки” и долго по очереди трясли мою руку.
19. Дача
В восемь тридцать наша бригада в полном составе, а именно, если расположить в алфавитном порядке, то Вася, Федя и Я добрались до входа в ЦДЛ, расположенного на Большой Никитской. Здесь нам предстояло, как оказалось, долго и с замиранием сердца ожидать появления человека, перед которым трепещет вся литературная гвардия Страны Советов и нам не мешало бы, коли мозги имеются.
Думалось, на худой конец увидим шикарную Волгу с водителем, но нас встретила снегоуборочная машина и та без водителя. Колеса на треть в мусоре погрязли, бросили её видимо, как только снега сошли, в ожидании следующего снега, да и прикорнула она, невостребованная, в ста метрах от назначенного нам места встречи.
- А чего она здесь торчит? – хором пропели мои друзья, вернее, коллеги по передислокации частной библиотеки особой важности.
- Чего это вы, как с луны свалились? Все правильно, - со знанием дела ответил я, тем самым поддержав решение коммунальных работников начать подготовку к зиме уже в мае месяце.
- Слышали ведь: «Готовь сани летом»? То-то!.
Но уже, 8.00, 8.30, 9.30, никого нет: ни машины, ни хотя бы Луконина с известием о том, что перевозка книг отменяется, вроде всё к этому идет.
- А мне как-то до одной части тела, которая пониже спины находится, будем мы сегодня работать или нет, - стал рассуждать Федя, - я вовремя приехал, нахожусь на рабочем месте. Так что свою трёшку уже имею.
- Правильно, - тут же согласился я и, развязно продолжил, - да, он заплатит, вилять не станет.
- Пусть попробует, - ухмыльнулся Федя, - я ему такое устрою, его персоналку подожгу, окна повышибаю.
- Ну и отгребёшь от трёх до пяти, - вздохнул Вася.- Подождем еще час, если не приедет, вернёмся в общагу, нам Ваагн по бутылке пива за простой поставит. Верно, говорю? - он обернулся ко мне.
- С воблой, - добавляю я.
И только тут до меня дошло, что не только за пиво, но и по “трёшке” платить не Луконин, а я должен. Чего я это вообще сболтнул… Может быть они и так бы без оплаты согласились...Но если грезящих о великой поэзии Луконин не заинтересовал, то эти деревенские пахари и подавно бы отказались. Вот оно как оборачивается, придется все же платить. Настроение изменилось, причем не в лучшую сторону.
И в эту минуту из-за поворота, словно желая отвлечь меня от неприятных мыслей, показалась «Волга» с мигалкой на макушке. Она, поблескивая перламутровыми боками, лихо развернулась и, скрипя и повизгивая тормозами, на скорости подъехала к нам. Тачка классная, что ни говори.
- Это вы к Луконину? - ухмыльнулся мужчина средних лет. - Садитесь!
Втроем втиснулись на заднее сиденье, поскольку на переднем кепка водителя лежала, которую он не решился убрать, видимо поскромничал. Тронулись, катим по Москве.
Лихо играя баранкой водитель оборачивается к нам:
- Ребята, вы уж меня не подведите, спросит, чо так поздно, скажу, вас дожидался.
Мы многозначительно переглянулись.
- Вам-то что, отработаете и баста… и неизвестно, свидитесь ли еще когда-нибудь, а мне работать, семью кормить, - он наигранно вздохнул. Но поняв, что мы не особо горим желанием поддержать его просьбу, кисло улыбнулся, разглядывая нас в зеркало.
- А чего опоздали тогда? - Спросил его Вася, - нам тоже не хочется выглядеть необязательными. Лучше вы сами со своим шефом разберитесь. Водитель на полуслове осёкся и оставил нас в покое.
Выехали за Московскую кольцевую, свернули на проселочную дорогу, ведущую к дачному поселку. Едем по потрескавшемуся асфальту с выбоинами да колдобинами, лобовое стекло в пыли, словно в тумане, впору щетки включать. Пришлось окна наглухо закрыть, чтобы не задохнуться.
А вот и Луконин стоит, нас дожидается, от пыли отмахивается, смотрит , как мы освобождаем лимузин представительского класса от пассажиров низшего сословия. Подошел, энергично, эдак торжественно, поздоровался с каждым за руку. Оказывается он такой простой, свой в доску, когда не в персональном кабинете, изумился я своему открытию. Пропустив нас вперед, Луконин обернулся к водителю:
- Коля, предупреждаю, и не пытайся валить на ребят, вовремя вставать надо.
Мы от удовольствия замурлыкали, а водитель, насупился, как провинившийся школьник, показушно опустил низко голову в ожидании, когда шеф сменит гнев на милость.
- Ну, пойдем, ребята, - обратился к нам Михаил Кузьмич, - а ты иди к Ане, помоги ей,- это он уже водителю. Тот нехотя поплелся в указанном направлении. 21.
На следующий день, во время перерыва я подкараулил в коридоре Валентину Семеновну и попросил разрешения позвонить из преподавательской.
- Хорошо, - охотно согласилась она, - зайдешь после занятий, чтобы не мешали, и говори, сколько хочешь.
Уходя, пригрозила пальцем:
- Только не девочкам! Смотри у меня!
- Я Урину, хочу… - поспешно пояснил я.
К моему огорчению, в преподавательской толпилось еще много народу. Валентина Семеновна увидела меня в дверях, торопливо подошла и чуть слышно прошептала:
- К семи часам нарисуйся. Хорошо?
Пришлось ждать. Пошёл в библиотеку, порылся на полках, полистал толстые литературные журналы: «Дружба народов», «Роман – газету», «Иностранную литературу». Последние пятнадцать минут просидел в фойе на первом этаже, и в указанный час поднялся в деканат.
На этот раз Валентина Семеновна находилась одна и что-то поспешно строчила.
Я набрал номер Урина, и начал было рассказывать ему о том, как мы работали, и что Луконин остался нами доволен, но Урин меня перебил и сообщил, что знает об этом, так как Луконин ему звонил и благодарил. Договорились встретиться на следующий выходной, в воскресенье.
Не успел я положить трубку, как Валентина Семеновна, с нетерпением ожидавшая конца разговора, вставила ножку табуретки в ручку двери… В этот вечер в общагу я добрался лишь к 12 часам ночи.
22. Марк Цейнис
В воскресенье у Виктора Урина, как всегда, многолюдно. На этот раз пожаловал еще и Эдмунд Йодковский с Ахметом Саттаром. Кто-то принес в резиновой грелке грузинскую чачу, Урин сварил картошку. Народ вывалил из своих сумок селедку, черный хлеб, сало, чеснок и другую “царскую” закуску. И началось застолье, которому позавидовали бы лучшие дома всех европейских столиц.
В разгар пиршества Эдмунд подсел ко мне и предложил в следующую субботу отправиться в гости к его лучшему другу Марку Цейнису. Уверил меня в том, что я встречусь с неординарной личностью, и знакомство с ним будет не бесполезным для меня.
Тем временем Урин стал зачитывать проект обращения к правительству СССР, в котором вкратце обрисовал плачевное состояние культуры в нашей стране и свою обеспокоенность по этому поводу. Вначале обеспокоенность Урина электорат поддержал робкими репликами, но после третьей-пятой принятой рюмки предложения посыпались, как из рога изобилия. Вынесли решение, как на партсобрании, в целом «Обращение» принять за основу, поручить В. А. Урину доработать и ознакомить с окончательным вариантом на следующем “сабантуе”.
_______
В пятницу вечером ко мне в комнату постучала вахтер тётя Нина:
- Ваагн, давай вниз, черти бы тебя унесли, надоел совсем. Ни одного дежурства не проходит, чтобы тебе никто не позвонил. Завтра Марии Ивановне доложу.
Я стал оправдываться:
- Теть Нин, я же вас просил, положите трубку рядом с собой и через пару минут скажите: «Ваагна нет в комнате».
- Да, а вдруг звонок важный! – возразила тётя Нина.- Представительный, я тебе скажу, мужчина звонит.
Она, улыбаясь, обняла меня:
- Ну, пойдем, пойдем, непоседливый ты мой.
В трубке я услышал голос Эдмунда Йодковского:
- Ваагн, не забыл, куда мы завтра идём? – загадочным тоном спросил Эдмунд.
А я действительно забыл, поэтому уверенно ответил:
- Нет, конечно, я и сам планировал тебе позвонить, напомнить.
- Вот и хорошо, встречаемся в пять вечера у метро «Сокол».
- Что брать с собой?
- А! Ты платежеспособный? Тогда возьми бутылку вина, что подешевле, за рубль - ну, полтора, не дороже.
23.
- Так вот ты какой, - во все глаза, рассматривая меня, тепло встретил нас Марк Цейнис, - а то мне Эдик все уши прожужжал, говорит, Ваагн - классный парень и все…
Мы прошли в накуренную, слабо освещенную небольшую комнату, в которой набилось человек 10-12. Сразу бросилось в глаза, что гости сидели без настроения, вяло поприветствовали нас и вновь притихли. Казалось, каждый думал о чем-то своем. В центре комнаты два больших полупустых чемодана, уложенных рядом, служили своеобразным журнальным столиком, на котором стояло несколько бутылок вина, три бутылки водки, соленые огурцы в пластмассовой посуде, открытая банка тушенки и две буханки черного хлеба.
- Ну что, приступим? - ни на кого не глядя, нарушил тишину лысый мужчина с рыжими остатками волос на затылке и потянулся за бутылкой водки.
Выпили молча.
- Что случилось, ребята, что произошло? – спросил, встревоженный невеселой обстановкой Эдмонд.
- Наума Штейнберга повязали, - за всех ответил мужчина, который сидел рядом с ним.
- Наума!? Его-то за что? – ничего не понимая, изумился Эдик.
- Самолет решил угнать, - стал пояснять, низкий, коренастый мужчина по имени Ефим, или Фима, как он представился.
- Все, баста, уезжаю! - взорвался хозяин квартиры Марк Цейнис:
- На хрен сдалась мне такая страна, где правят ублюдочные люди, придумывают ублюдочные законы?! Как все это надоело. Страна, где власть презирает нас, не скрывает, что мы являемся людьми второго сорта. Устал я. В понедельник подаю заявление. Все! Точка! Достали!
Он опустил голову и обхватил её руками.
Эдик повернулся ко мне:
- Наум Штейнберг - близкий родственник Марка. К тому же они ровесники и семьями дружат.
Самый старший по возрасту, Наум Сагалович, единственный в этой компании в цивильной одежде: в строгом пиджаке тёмно-синего цвета, в чёрной сорочке и светлом галстуке, стал рассказывать Эдмонду, иногда посматривая в мою сторону, с намерением и меня приобщить к разговору:
- Он возвращался из Фрунзе на Ил-62, на подлете к Москве достал пистолет «Макаров», прижал проводницу к борту и закричал в открытую кабину летчикам свое требование: немедленно развернуть самолет и лететь в Швецию. Самолет вроде бы взял новый курс, потом к нему, с поднятыми вверх руками, подошел один из летчиков и стал объяснять, что не хватит горючего. Ну, и отвлёк его, Наум ведь такой неискушенный в таких делах. Со спины незаметно подошла вторая бортпроводница и бутылкой по голове. Навалились, повязали.
- А как он “Макара” на борт пронёс?
- Ты был во Фрунзе?
- Нет.
-Там и танк пронести можно.
Тут разом заговорили несколько человек, каждый о своём, о наболевшем:
- Он три года уже заявление подает, отказывают.
- Моего свояка тоже мурыжат.
- С работы уволили, а не выпускают.
- И я бы рискнул, да уверен не выпустят.
- Вот уже год, доктор технических наук, автор сорока изобретений шмотками на рынке торгует.
Марк Цейнис призывая гостей угомониться, поднял пустой стакан:
- Наливайте. Говорили, по какому поводу собрались? А вот меня провожаете. Повод, куда уж лучше?
- Тёщу-то, сможешь уговорить?
- Жена займется. Так наливайте же, чего приуныли?!
Пили без особого подъема, так - по инерции, старались заглушить тоску, забыться, хотя бы на время избавиться от тягостных мыслей. К десяти вечера Исаак поднял бутылку с остатками вина и сказал:
- Через сорок минут магазин закроется. Если хотим продолжения банкета, то сбрасываемся, - достал из-под себя изрядно помятую кепку, и пустил ее по кругу. Кепка скоро наполнилась рублевками и мелочью. Он сгреб деньги, пересчитал, добавил еще два рубля:
- Вот теперь имеем две бутылки водки и три «Каберне». Возражения имеются?
- Иди, иди, не тяни, - оживилась компания.
Исаак хлопнул дверью и, напевая песенку, стал шумно спускаться по лестнице.
Наум Сагалович снял очки, протер стекла и, чтобы скоротать время, ударился в размышления о смысле жизни.
- Представьте себе, - стал рассуждать он, - деревня, люди как люди, общаются, работают, отдыхают. Лишь из одной избы никто не выходит за ограду, а это, быть может, одна из самых многолюдных семей. пять-шесть сыновей, к примеру, столько же дочерей, ну понятно, зятья, невестки, внуки и правнуки. И вот глава этой семьи никому не разрешает покидать свой двор. Подходят они к забору и с тоской смотрят на деревню, на людей. А за забором гуляют, гармошка, хохот. Так вот - вопрос. Какое мнение может сложиться у соседей об этой семье, об этом хозяине? Как минимум, скажут, на голову больной человек. Я думаю, вы поняли меня. Вот так и мы... За высоким забором… Не проломить его, не взорвать...
Он замолчал, предлагая и другим высказаться.
В ответ послышались реплики.
- А что делать?
- Не воевать же?
- В войне, имея сто шестьдесят миллионов граждан, наша страна потеряла сорок два миллиона, погиб каждый четвертый. Вдумайтесь только в эти цифры! Окуджава пел: «Мы за ценой не постоим». Получается, это не строчка из песни, а доктрина наших руководителей.
- Интересно, а БАМ, построили? Что-то ничего не слышно?
- Как не слышно?!- встрепенулся очкарик с бакенбардами и запел:
- Веселей ребята! Выпало нам Строить путь железный, А короче - БАМ.
Песню подхватили. Закончилось общим смехом.
Очкарик с бакенбардами опять забасил, теперь уже другую песню. Очевидно, в свое время занимал не последнее место среди комсомольских активистов:
- Слышишь время гудит БАМ! На просторах крутых БАМ! И большая тайга покоряется нам. Слышишь время гудит БАМ! На просторах крутых БАМ! Этот колокол наших сердец молодых.
Теперь еще дружней поддержали остальные. Двое, как при исполнении гимна, встали, вытянули по швам руки, вошли в раж. Первый приложил руку к виску, отдавая честь неизвестно кому, а второй стал на месте маршировать, усердно чеканя шаг. Общий хохот заглушил это импровизированное исполнение.
- Смеёмся. А Жуков тоже посмеивался: «Бабы еще нарожают». Помните?
Неожиданная смена темы отрезвляюще подействовала на собравшихся. Притихли. Фима стал с хрустом жевать солёный огурец. Тот, что сидел напротив, Эдуард, упёрся взглядом в потолок, и остальные ушли в себя, о чем-то думая. Наконец, подал голос хозяин квартиры:
- В понедельник после обеда, иду заявление подавать.
- Да ладно, Марк, остынь.
- Того ты не знаешь, что все ближайшие родственники должны дать согласие.
- Вот-вот, а твоя тёща никогда не подпишет. Так что и не рыпайся.
- Как странно все...
- В Ленинграде в блокаду погибло порядка миллиона ленинградцев, от голода умерли. Что бы произошло, если бы сдали город? – задался вопросом Абрам.
- Да ничего. Сдали ведь Минск, Киев, а это не менее значимые города и там были жертвы. Но это мизер по сравнению с Ленинградом.
- Дело в том, что когда становилось очевидным, что город не удержать, специальные службы готовили эвакуацию, вывозили население, ценное оборудование, целые заводы вместе с рабочими переправляли за Урал. Короче, готовились. А с Ленинградом не рассчитали, немец слишком быстро шёл. Не успели.
- Ну и оставить нужно было, а не голодом морить.
- Те командиры, которые отвечали за эвакуацию, за подготовку города к сдаче, разве понесли наказание? Я что- то не слышал. А ведь именно они виновны в гибели, бессмысленной гибели людей.
- О чем ты? Никого не наказывали.
- Более того, продолжают восхищаться героизмом. Героизмом умерших с голоду. Да будь их воля они до Сибири пешком бы дошли.
- И вплавь, до Америки...
- Это перебор, тут юмор не к месту, – огрызнулся автору фразы очкарик с бакенбардами, грозно посмотрев на него поверх узеньких стеклышек недорогих очков.
- Нет, если серьезно. При царе Москва являлась вторым городом, как сейчас Ленинград. И Кутузов, учитывая сложившуюся обстановку, сдал Москву.
- Как там у Лермонтова? - встрял в разговор, самый неприметный из собутыльников гость Марка, и процитировал на свой лад две строчки из стихотворения “Бородино”:
-Скажи-ка дядя, ведь недаром Сидела Дунька за амбаром !
Но ожидаемого эффекта не произвел, видимо многим была знакома эта бесхитростная импровизация.
- И был прав Кутузов. Время показало, - вернул к теме разговора и поставил точку Абрам.
Вдруг входная дверь загрохотала, по ней били ногами.
Марк усмехнулся:
- Исаак это, - тяжело поднялся и вышел в коридор.
- А это я-я-я-я-я!!! - ворвался в открытую дверь голос Исаака.
- У тебя что, совсем шарики?! - возмутился Марк.
- Так у меня ж руки заняты, не сообразил авоську взять, - завизжал тот.
И отстраняя Марка, прошел в комнату, и снова весь в возбуждении закричал:
- Да здравствую я! То есть Исаак Михайлович, самый отважный, самый умный, короче, самый, самый !!!
- Во-первых, не Михайлович, а Моисеевич, а во- вторых, ты такой же умный, как и красивый, а заодно и отважный.
- Ну, и я об этом, - не выпуская из рук бутылки, не унимался Исаак, - а будете обижать - уйду!
- Да поставь ты бутылки, наконец, разобьешь.
Сразу трое принялись вырывать бутылки и расставлять на чемоданах.
- Подхожу я, значит, к магазину, а Клава уже с замком возится, дверь закрывает. Я к ней - и на колени.
- Да ладно тебе.
- Зуб даю. Короче, уломал я её. Понаобещал с три короба.
- И что такого ей наобещал?
- Как чего? Она же без ума от меня. Ну, во-первых, я очаровал её своей красивой улыбкой и первозданной чистотой своих чувств и помыслов, и... обещал трахнуть.
- Понятно, пошёл заливать.
- Все! Хватит трепаться. Откупоривай лучше. Ты у нас по этому делу мастер.
24
В понедельник, во второй половине дня, Марк Цейнис отправился в Московское отделение МВД в отдел виз и регистраций, в ОВИР, как принято было называть в народе этот отдел. Получил анкеты.
Как и предвиделось, тёща, Людмила Ивановна, наотрез отказалась подписывать, то есть зафиксировать своё разрешение дочери вместе с семьей покинуть СССР и переехать жить в Израиль.
Напрасно, словно бы предчувствуя беду, надрывалась дочь:
- Мама, подпиши, - просила она, - мама, это моя судьба!
- Бабушка, - рыдали навзрыд внучки, - мы хотим жить в свободной стране.
Но тёща стойко держала оборону.
- Только через мой труп, - грозно повторяла она, - только через мой труп!
И как в воду глядела, через несколько дней у квартиры Марка Цейниса появилась крышка гроба, потянулись люди, родственники, друзья, соседи и просто знакомые. Венки, один импозантнее другого, стали украшать стены обшарпанного, отдающего мочой подъезда.
В гробу лежал Марк Цейнис.
В силу известных причин ему отказали в ОВИРЕ. Он вернулся домой, молча поужинал, сел в любимое кресло и уснул. Как оказалось, навсегда. Решившихся проститься с Марком оказалось немного, ведь хоронили человека, намерившего покинуть страну с самым гуманным и справедливым строем. Или во избежание возможных проблем не хотели светиться, кто знает. Или то, или другое.
На кладбище ко мне подошел Давид из той компании и стал нашёптывать:
- Вот я о чем постоянно думаю. Советские войска вошли первыми в Берлин и флаг первыми водрузили. Всем на зависть. Так вот, при взятии Берлина наши потеряли (это из учебника по истории) триста тысяч солдат. Это ведь целый город. А французы не потеряли, поскольку не участвовали в боях за Берлин, ни одного солдата. Они шли к Берлину, напевая песенки под губную гармошку и собирая полевые цветы. И Берлин разделили аккурат на четыре части между англичанами, американцами, французами и нашими. Где логика мудрого в кавычках Сталина и за что такие привилегии получили французы.
- Потише вы, - услышав, о чем идет речь, возмутилась пожилая женщина.
Я мысленно поблагодарил эту даму и отвалил подальше от Давида.
В это время попросил слово Наум Сагалович. Он, не спеша, подошел к гробу, утирая слезы, поцеловал Марка в лоб, достал листочек бумаги:
- Это стихотворение я написал сегодня утром, - торжественно объявил он и стал читать, картавя и от волнения путаясь в словах.
Вдруг прозвучало:
РАДУЙСЯ, МАМА, ТВОЙ СЫН ОСТАЛСЯ В РОССИИ!
Все оцепенели и посмотрели в сторону тёщи, беззвучно рыдающей у ног покойника.
Снова мы услышали.
РАДУЙСЯ, МАМА, ТВОЙ СЫН ОСТАЛСЯ В РОССИИ!
Эти строчки вывернули наизнанку мою душу, до боли в сердце пронзили моё сознание, наверное, и каждого пришедшего на кладбище.
И снова уже знакомые строчки.
РАДУЙСЯ, МАМА, ТВОЙ СЫН ОСТАЛСЯ В РОССИИ!
Я воочию увидел, как сердца тысячи тысяч невинно погибших разом пробудились, чтобы вновь схлестнуться в неравной схватке с черными силами и навсегда унести с собой светлое сердце Марка Цейниса.
РАДУЙСЯ, МАМА, ТВОЙ СЫН ОСТАЛСЯ В РОССИИ!
Теперь они невидимыми колоколами били в набат, жгли сердца, пытались достучаться до каждого, кто способен еще сопереживать и сострадать.
РАДУЙСЯ, МАМА, ТВОЙ СЫН ОСТАЛСЯ В РОССИИ!
РАДУЙСЯ! РАДУЙСЯ! И ЛИКУЙ!!!
25. Кафе Центрального дома литераторов.
Вася и Федя только на третий день вечером, в приподнятом настроении, ввалились ко мне в комнату.
- А мы караулим, все подловить не можем, решили, кинуть нас задумал, - перебивая друг друга, набросились они на меня.
Я не ответил, не теряя своего достоинства, небрежно достал из кошелька две новенькие, совершенно гладкие, не жеванные купюры и протянул ребятам, с интересом наблюдая, как расширяются зрачки у моих "компаньонов". Они с деловым видом, после тщательного изучения каждой трёшки, немного посовещавшись, разделили их поровну между собой, и основательно утрамбовали в свои кошельки. А на предложение, разделить на троих еще и пригласительные билеты, усмехнулись:
- Зачем оно нам. Лекцию о пользе мыла мы сами кому хошь прочитаем, - и подытожили, - гуляй один.
А уходя, добавили:
- Будет переезжать, дай знать!
Вот я и загулял. Побывал на вечерах Льва Ошанина, Эдуарда Асадова, Давида Кудыкова, Анисима Кронгауза, Алексея Маркова. Читатель, вероятно, скажет, что это, мол, звезды не первой величины. Согласен. Но мне достались билеты на встречу именно с этими поэтами. Да и главное, разве в этом заключалось? Я ведь входил не куда-нибудь, а в Центральный дом литераторов, как к себе в общагу.
Кстати, на стене кафе ЦДЛ красивым почерком выбито следующее четверостишие, за подписью, уже известного нам, легендарного Расула Гамзатова.
Пить можно всем, Необходимо только Знать, где и с кем, За что, когда и сколько.
Эти строчки не могут не понравиться любой, ратующей за трезвый образ жизни, и во время застолий, знающей свою меру, личности. Понравились, соответственно, и мне, я даже их запомнил. Заметьте, не делая попытки заучить их наизусть. Но меня все время терзала мысль, что я эти строчки, или нечто подобное, уже читал. И точно, вспомнил! Это ведь перифраз самого Омара Хайяма.
Вино запрещено, Но есть четыре, "но": Смотря кто и с кем, когда И в меру ль пьет вино.
Но винить депутата Верховного Совета СССР, товарища Гамзатова не особенно хочется, так как я согласен с теми, кто считает, что после Хайяма всё написанное - повтор.
Я опять отвлекся.
____
Так вот, я сначала направлялся в кафе, заказывал кофе и, заняв, расположенный подальше от эпицентра, столик, блаженствовал.
А далее начиналось самое невероятное, ведь в кафе Союза писателей имела привычку тусоваться вся элита советской официальной литературы, а меня в то время завораживала исключительно поэзия и, соответственно, тянуло в первую очередь к поэтам, имена которых были на слуху у многочисленных почитателей советской поэзии.
Я видел, как за соседним столиком перешептывается с кем-то Роберт Рождественский, степенно прохаживается, снисходительно улыбаясь, и слегка кивая головой то в одну, то в другую сторону, принцесса советской поэзии Белла Ахмадулина. Однажды за соседним столиком сидел неулыбчивый и очень строгий на вид казахский поэт Олжас Сулейменов.
Завсегдатай писательского кафе Евгений Евтушенко, как правило, окружал свою персону поэтами-спутниками, которые с особым подобострастием оттеняли величие и степень яркости неповторимой суперзвезды. К моей радости появлялся в кафе и армянский поэт Геворк Эмин, который всем подряд сразу после приветствия, сообщал о том, что у него ухудшилась память, и что он особенно плохо помнит имена, числа... и еще что-то не помнит, но не может вспомнить, что это.
А однажды к моему столику с чашкой кофе подошел сам Андрей Вознесенский. Он так вежливо, с эдаким уважением, спросил: «У вас свободно?», что я слегка замешкался, привстал и осторожно, приглашая его сесть, кивнул головой. Он сел, но не успел прихлебнуть пару глотков, как к нему подошли трое. Первый, импозантно одетый мужчина, положил руку ему на плечо и, наклонившись, стал чуть слышно, и преданно нашептывать. А я гляжу на них и соображаю, как быть: за нашим столиком два свободных места, а над головой стоят три мужика. Я собираю вещи, чтобы пересесть, уступить им место, благо почти у каждого столика пустовало по одному стулу, и делаю это нарочито медленно, представляю, как встрепенётся сейчас Андрей Вознесенский, он почувствует себя неловко, начнет отговаривать, благодарить. Но я вежливо откланяюсь, улыбнусь ему, как старому другу и удалюсь в уверенности, что в следующий раз и в другие дни мы будем замечать друг друга, и Вознесенский даже первым станет приветствовать меня. Но, увы, Вознесенский, поглощенный получаемой на правое ухо информацией, даже не заметил моего благородного поступка. А жаль. Он многое потерял. Ведь такой же случай может повториться, тогда я уже, поверьте мне, буду сидеть, как к креслу прибитый. И тогда он вспомнит, и даже пожалеет. Но это уже его проблема.
26. Михаил Львов
И вот я использовал последний пригласительный билет, и двери писательского дома (о, ужас!) вновь закрылись передо мной. Прощай кафе, прощайте возможные благородные поступки, в смысле, место за столиком или очередь к барной стойке уступить. Прощай, Миля - работница кафе, с которой я успел подружиться, но почему-то тянул с приглашением вечером подышать свежим воздухом, думал успеется, но увы, не успел.
Дней десять ходил, как потерянный, чего-то не хватало. Сколько возможностей я упустил! Ведь даже Константина Симонова видел: он мимо проходил, я мог бы поздороваться или обратиться с каким-нибудь вопросом. Да что там Симонов, живую легенду Мариэтту Шагинян видел, она, как утка, ковыляла, глядя себе под ноги. Булата Окуджаву, в потертом пиджаке и сигаретой в зубах, несколько раз. Теперь всех и не упомнишь...
На исходе второй недели вынужденного «простоя» я не выдержал. Ноги как-то сами собой после занятий повели меня к остановке троллейбуса, который шел в сторону ЦДЛ. Подкатил порожняк, еду. И чего еду - непонятно, на дверь посмотреть что ли? А там вздохнуть и с тяжелым сердцем вернуться в общагу?
Вот она уже полюбившаяся, еще совсем недавно такая родная, а теперь уже чужая и холодная массивная дверь. Подхожу, а в голове вертится, скорее всего, давным-давно позабытое, предложение Михаила Львова, если что, позвонить, к нему обратиться. И я, не без робости, направляюсь к вахтеру:
- Здравствуйте, - обращаюсь я к нему, заискивая и вежливо улыбаясь, - мне нужно поговорить с Михаилом Давыдовичем, наберите ему.
Вахтер своей огромной лапой отодвигает телефонный аппарат от меня подальше и с недоверием осматривает меня.
- Ты что, родственник?
- Нет.
- Это служебный телефон, не положено, - заключает он.
- Меня Михаил Давыдович в одно место направил, - начинаю я плести, что в голову взбредёт, - и наказал, чтобы я ему после позвонил.
- Ну и звони, вон в городе сколько телефонных будок.
- У меня нет двушки.
Вахтер самодовольно усмехнулся:
- Может тебе еще и ключи от сейфа, где деньги лежат?
- Понятно.
Я развернулся - и к выходу. Вдруг двери открываются, и входит Михаил Львов.
У меня от радости - рот до ушей, и я к нему, как утопающий который за соломинку хватается, только в данном случае не соломинка плыла, а самое крупное бревно, о котором я и мечтать не мог. (Да простит меня читатель за подобное сравнение, я это в переносном смысле) .
И я защебетал, - Михаил Давыдович, здравствуйте! Помните, вы пришли к Луконину, а я как раз… а мы как раз...
- Помню, конечно,- заулыбался Михаил Давыдович.
- Вы говорили, как кончатся пригласительные билеты, вот они кончились, и я хочу поблагодарить вас…
- А ну, пойдем, - перебил меня он, - у меня должны быть еще…
Мы поднялись к нему в кабинет.
- Выбирай, - он показал рукой на журнальный столик, где среди газет лежали пригласительные билеты. Я аккуратно сложил их в одну стопку и стал просматривать.
- Михаил Давыдович, здесь и просроченные есть, вы не заметили.
- Ты выбери, что тебе нужно, а можешь взять все, там определишься, - доставая из портфеля бумаги и раскладывая их на столе, заговорил Львов, давая этим понять, чтобы я не особо рассиживался.
- Правда? - у меня от радости загорелись глаза.
- Правда, правда, бери все. А мне поработать нужно.
Я сгреб все билеты, в дверях остановился:
- Большое спасибо, Михаил Давыдович!
- Нужно будет еще, заходи, звони, только иди сейчас, - уже теплее стал прощаться Львов.
- Спасибо! - с трудом сдерживая радость, я закрыл за собой дверь.
Я победоносно проследовал мимо вахтера, но тот сделал вид, будто и не замечает меня. А впрочем, и у меня пропал к нему всякий интерес. Но уже на выходе вспомнил о Миле, барменше, развернулся и уверенно зашагал мимо того же, откровенно зевающего вахтера, в родное кафе, мимо столов и стульев, даже не обращая внимания на самого Михаила Пляцковского, которого чуть было с ног не сшиб, и прямо к барной стойке.
Но Мили нет, другая девушка на ее месте. Спрашиваю:
- А где Миля?
- Её нет, она уволилась.
- Как так, еще неделю назад…
- Я уже третий день здесь, она замуж вышла за поэта из Даугавпилса и уехала с ним.
Увидев мое удивление, а она и впрямь ошарашила меня, добавила:
- Повезло ей.
- И где тут повезло: из столицы на периферию, - пожал я плечами.
- Так она ж не москвичка, приехала сюда без рода и племени. Из села Альгешево, из-под Чебоксар. Там дояркой работала. А теперь, как белая леди, будет приёмы устраивать, да гостей принимать. И муж-то её, теперешний всё более по заграницам, у нас не особо засиживается. Так что, может, ей уже загранпаспорт оформляют, хотя она толком и обыкновенного не имела. Перед отъездом в Москву только получила, поскольку он ей без надобности был. А он, говорят, классный поэт! Я правда не читала.
- Как его зовут?
- Зачем тебе это, чтобы нашкодить? Иди, иди, раз ничего не заказываешь!
А затем, оглянувшись по сторонам и шепотом добавила:
- Слышал, есть такой поэт Давид Кудыков, вот за него.
27. Зачеты
В институте наступила пора зачётов. Я нервно метался от одного преподавателя к другому. Те, ухмыляясь, открывали журнал посещаемости занятий и тыкали мне в лицо мои же пропуски.
- Не был, опять не был, вот снова пропуск, да в марте месяце ты ни на одном занятии не присутствовал!
Возмущению преподавателей не было предела. А по худому загорелому лицу физрука скользнула едва заметная усмешка:
- Карапетян, так ты лыжи не сдал?!
- Я болел, Георгий Иванович, вот честное слово. Вы не помните, я потом к вам подошел, вы сказали: «Ну ладно, не беда». Еще и пожелали мне больше не болеть.
- Ну, как, не болеешь?
- Нет, спасибо.
- Я рад, но ничего поделать не могу. Лыжи сдать надо.
- Георгий Иванович, как… в мае? – выразил я недоумение и смастерил на лице маску, полную отчаяния, угрызения совести и боли за бесцельно пропущенные занятия.
- Не беда, следующей зимой сдашь
Меня от этого предложения в жар бросило, - так меня к экзаменам не допустят.
- Но что я могу поделать? Это не мои проблемы, - вздыхая, развел руками Георгий Иванович.
- Георгий Иванович, - взмолился я, - обещаю… зимой… всю зиму на лыжах проведу. В институт на лыжах стану приезжать. Там всего километров двадцать если напрямую. Нет, серьезно. Георгий Иванович! Не губите, я еще так молод!
- Доконал ты меня. Завтра подъедешь в Лужники к трем часам. Придешь, поговорим, там видно будет.
- Вы самый справедливый преподаватель на свете, Георгий Иванович! - заорал я на весь коридор, да только зря старался.
На следующий день отправился я на стадион, там Георгий Иванович с группой девушек занимается, энергично жестикулируя руками, что-то разъясняет. Такой серьезный, видимо, недоволен результатом.
- А, это ты, - мрачно встречает меня он, - значит так, по беговой дорожке, четыреста метров всего, немного, - и по-отечески успокаивает:
- Не сложно, управишься. Десять кругов и на время. Но если не уложишься, зачета не будет.
- Георгий Иванович, - затрясся я всем телом и с сожалением и тоской посмотрел на свои модные, лакированные туфли армянской фирмы «Масис».
- Вон тапочки лежат, раздевайся, в трусах побежишь, погода теплая.
- Георг…
- Время пошло! – буркнул он и включил секундомер.
Это были затасканные, разорванные, кем-то брошенные тапочки. Не помню, как я сбрасывал одежду, как натягивал на босу ногу эту рвань. Помню только, как на второй четырехсотке выдохся. Но ползу, не схожу с дистанции. Пятый круг, шестой. Перехожу на бег рысцой, когда Георгий Иванович смотрит в мою сторону. Девятый круг, десятый пошел, а Георгий Иванович нарочито всё на секундомер посматривает, и девочки надо мной подшучивают, мне вслед улюлюкают. Попались бы они мне в темном месте, хотя они спортсменки, лучше не связываться, могут и накостылять.
Наконец, чуть ли не по-пластунски доползаю я до финиша. Георгий Иванович смотрит на секундомер и качает головой:
- Не уложился, завтра в это же вре…
Но тут девушки как взвоют:
- Пожалейте, Георгий Иванович! Ну, пожалуйста, Георгий Иванович! Посмотрите на него, он теперь неделю в себя приходить будет.
Девочки, поднятым шумом и гамом привели в замешательство, растопили черствое сердце Георгия Ивановича, он не нашелся что ответить, замялся и махнул рукой:
- Завтра, до десяти, я в деканате буду, принеси зачетку.
У меня и поблагодарить-то сил не осталось. Минут сорок штаны натягивал, рубашку застёгивал, руки дрожали, подташнивало и состояние «под ноль». Помахал девушкам рукой, слегка поклонился в их сторону, мол, глубоко признателен, но девушкам уже не до меня было, они готовились к новому забегу.
28.
В воскресенье, как и договаривались, поехал к Урину. Открыла мне дверь Наташа.
- Где тебя носит? Я два раза к тебе поднималась.
- Зачеты сдавал.
- Успешно? Хвостов нет?
- Да, немножко с физкультурой пришлось повозиться.
- Ой, наш тоже лютует, прям сил нет.
- Да что там, - махнул я рукой, - у нас Георгий Иванович такой есть, придурок. Представляешь, он мне, мол, пропуски имеются… А я молча измерил его с ног до головы, так он надул в штаны, описался от страха, тут же мне: « Давай зачетку».
Выпалив сию тираду, я вспомнил «приятную» встречу с Георгием Ивановичем, этим безжалостным, бессердечным человеком, душегубом, самым подлым экземпляром из рода человеческого и, отгоняя тяжелые воспоминания, устало усмехнулся.
- Серьезно?! Какой ты молодец, мне бы вот так, - вздохнула Наташа. - А Виктор Аркадьевич вышел, должен вот-вот вернуться, разувайся, смотри, как чисто. Это мы с Любой два дня скоблили.
Я сбросил обувь, мы прошли на кухню. Люба у плиты возилась, чай заваривала. Обернулась ко мне:
- Будешь, свежий?
- Не откажусь.
- Люба, расскажи, как наш физкультурник выкаблучивается, - обратилась к подружке Наташа и полезла в настенный шкаф за стаканами. - Вот бы тебя к нам, Ваагн. Ты бы точно его на место поставил.
В дверь позвонили, Наташа помчалась открывать. Послышались знакомые голоса. Это были Урин, Хасан Баблу, Василий Брусилов, Субхи Курди, Роберт Кваши Эдох.
- Девочки, сюда ! - загремел Виктор Аркадьевич.- Работаем, чаи гонять после будем.
Мы с Любой появились из кухни.
- Ваагн, и ты здесь, - обрадовался Урин, - молодец!
- Мы же на сегодня договаривались, Виктор Аркадьевич.
- Все верно, я помню.
- Давайте, рассаживайтесь, наступает торжественная минута. Мы присутствуем при историческом событии! – приняв позу оратора, знакомую по спектаклям из жизни древних римлян, но без лаврового венка на голове, он с особым пафосом продолжил:
- Сейчас я зачитаю обращение, которое наши потомки золотыми буквами впишут в историю человечества. Наступила минута, о которой я мечтал всю свою жизнь!
Мы притихли, неожиданно перешли на шепот и, уступая друг другу удобные места, расселись.
Урин занял старое, с гербом дома Романовых, кресло из потускневшего красного дерева, покрытого филигранной резьбой умелого мастера. Взял в руки тиснёную золотом папку, достал лист бумаги с машинописным текстом, окинул нас соколиным взглядом и стал читать:
«Сообщение библиотеки мировой поэзии «Глобус поэтов».
В июне месяце «Литературная газета» напала с клеветнической статьей на работы интер. клуба «ГЛОБУС ПОЭТОВ».
Высмеивалось создание Олимпийской антологии, которая нашла свое выражение в структуре «ГЛОБУСА»…
Урин прервал чтение, так как зазвенел дверной звонок, Баблу пошел открывать и вернулся вместе с девушками из Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Марьяной Мартинес с Кубы, Людмилой Левандовской из Польши и Маргаритой Абрамовой из Нижнего Новгорода. Они, войдя и увидев наши сосредоточенные, серьезные лица, молча расселись на предложенные джентльменами места. Урин после небольшой паузы продолжил:
- Защищая честь и достоинство нашего детища, и, опираясь на существующее законодательство, было подано исковое заявление в суд на «Литературную газету», которая обвинялась в безответственном выступлении, нанесшим вред общественному делу.
Представители этой газеты были дважды вызваны в суд, но на призывы судьи Шалагина Б.С. не откликнулись, не явились.
Нам сообщили, что судебный процесс отложен на сентябрь. В сложившейся ситуации Интернациональный клуб "ГЛОБУС ПОЭТОВ" вынужден приостановить свою деятельность в СССР, однако мы уверены, что дух этого клуба не может быть погашен.
Президент интер.клуба
«ГЛОБУС ПОЭТОВ»
Члены Совета интер.клуба
«ГЛОБУС ПОЭТОВ»
Урин закончил читать и напротив строчки «Президент интер.клуба «ГЛОБУС ПОЭТОВ» поставил свою подпись. Вслед за Уриным подписал документ, как член Совета, самый активный участник Бадрул Хасан Баблу из Бангладеш, затем Субхи Курди из Сирии, следом потянулся Василий Брусилов из-за Урала, ну и я к нему пристроился. Последнюю подпись поставил Роберт Кваши Эдох из Республики Того.
Девочки сидели ни живы, ни мертвы, было понятно по их бледным лицам, что они не решаются присоединиться к нам.
Виктор Аркадьевич, не обращая внимания на девушек, убрал в свою папку наше заявление и азартно посмотрел на Наташу:
- А ну, хозяйка, накрывай на стол!
Девочки словно ждали этой минуты, гурьбой бросились на кухню и загремели посудой.
29. Дом дружбы народов
Михаил Анчаров - писатель, поэт, бард, драматург, сценарист и художник. А еще и член Союза писателей, автор шестнадцати книг, соавтор семи довольно-таки известных советских фильмов. Среди которых «Аппассионата», «Мой младший брат». Фронтовик, награждён: «Орденом Отечественной войны второй степени» и «Орденом Красной Звезды». Не уверен, что вы не устали читать перечень его литературных и не только заслуг, лично я устал перечислять. И при этом он оставался практически неизвестной личностью, как говорится, широко известным в узких кругах.
Меня он удивил тем, что оказался автором нескольких, когда-то мною прочитанных в журнале «Юность», строчек, они мне в свое время запомнились.
…Мы ломали бетон И кричали стихи, И скрывали Боль от ушибов. Мы прощали со стоном Чужие грехи, А себе не прощали Ошибок…
Так вот, он написал песню на стихи Виктора Аркадьевича «Ветер заметает снежные дороги....» - и по этому поводу сегодня встреча у Урина дома. Мы, всей компанией, ввалились к Урину и, радостные и возбужденные, ждали прихода Анчарова. По сложившейся традиции, девочки занимались сервировкой стола, а мужчины с умным видом делились своими радостями и горестями. Рассказывали о своих «подвигах» за прошедшую неделю, вперемежку читали стихи, разбавляя их анекдотами в тему. В квартире стоял гул, схожий с пчелиным, он равномерно заполнял все комнаты. Гости выплескивали свои эмоции хотя и негромко, а иногда и вовсе переходя на полушепот, но все одновременно и это обстоятельство полностью устраивало пишущую братию, так как никто не собирался выслушивать чьи-то бредни, все стремились свои излить… Наконец, долгожданный стук в дверь - звонок в последнее время не работал. На сей раз Виктор Аркадьевич сам поспешил встретить гостя.
Друзья-соавторы новой песни долго стояли в коридоре обнявшись, выражая искреннюю и неподдельную радость состоявшейся встрече. В порыве чувств похлопывали друг друга по плечу, с хохотом тискали, приподнимая друг друга. Заражали своим смехом и нас, молча наблюдавших за этой сценой. А когда Михаил прошел в столовую и стал с нами знакомиться, мы обратили внимание на влажные от слез глаза.
Закончив церемониальную часть встречи с долгожданным гостем, мы стали рассаживаться, а Михаил Анчаров расчехлил гитару и начал строить струны, намереваясь, в первую очередь, исполнить песню, ради которой, собственно говоря, мы и собрались в этот день. Но Виктор Аркадьевич опередил его:
- Обожди, Миша, есть важная информация, - Урин сделал паузу и обвел взглядом присутствующих:
- 18 декабря, в субботу, “Дом дружбы народов” ждет нас, к себе в гости. С завтрашнего дня начинаем готовиться, - объявил он и обратился к Бадрулу Хасану Баблу:
- Баблу, завтра я жду тебя после обеда.
Бадрул, с которым меня связывала крепкая дружба, весь сияя, выпалил:
- И Ваагн пусть придет.
- А как же! - воскликнул Урин, подошёл ко мне и приятельски потрепал меня по щеке:
- Ваагн - моя правая рука. Конечно, и Ваагн, - добавил он. - Это и всех касается, у кого есть свободное время, жду. Работы много.
Обернулся к Михаилу Анчарову:
- А теперь, Миша, мы все во внимании, тебе слово!
30.
Дом дружбы народов - одно из элитных оригинальных зданий Москвы, построенное представителем богатого купеческого рода Морозовых Арсением, двоюродным племянником известного купца Саввы Морозова. Впоследствии, дом был продан сыну бакинского нефтепромышленника Александра Манташёва Леону. А там нагрянула советская власть, и здание национализировали. Если отвлечься от этого научного термина, то просто ворвались с ружьями в грязных сапогах, прошастали по паркету из мореного дуба и выкинули законных владельцев на улицу. Так, что, при желании и наличии на руках документов, потомки семейства Манташёвых могли бы предъявить свои права на это здание и поселиться в нем, а заодно и мне накинуть процент за подсказку.
За годы Советской власти у здания сменилось несколько хозяев, последним владельцем оказался «Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами». Особняк получил название «Дом дружбы с народами зарубежных стран», или, в обиходе - «Дом дружбы народов». В этом здании проводились конференции, встречи с иностранными деятелями культуры, время от времени кинопоказы зарубежных фильмов не для широкой публики т.д.
Так и осталось тайной, как умудрился Урин добиться благорасположения дирекции этого заведения. Я думаю, скорее всего, произошла накладка, и этот день завис, нужно было срочно найти замену, тут и подвернулся под руку Урин со своим, казалось бы, благородным начинанием. Подумали, хуже не будет, а оказалось, будет. Уже к концу встречи Урин подсел ко мне и прошептал на ухо:
- Сейчас попроси слова, выйди к трибуне и начни меня критиковать.
Я напрягся, подумал, что ослышался. Урин наклонился ко мне и ещё раз повторил, более внятно проговаривая слова, теперь уже на правое ухо:
- Слушай меня внимательно, попроси слова, выйди к трибуне и начни меня критиковать. Задай мне вопрос, мол, Виктор Аркадьевич, почему так медленно движется строительство «Глобуса поэтов»? Требуй, чтобы я объяснил. Так надо! Ну, иди.
Я бледнея от волнения, нерешительно поднял руку. Ведущая сразу заметила меня и пригласила к трибуне. Делать нечего, иду. Наши все в недоумении, Бадрул смотрит на меня, широко раскрыв глаза. Кому - кому, а уж ему известна вся программа, в том числе и те заготовки, которые должны на импровизацию походить. И другие замерли, не понимая, что все это значит.
Поднялся я к трибуне, посмотрел в зал и застыл в неуверенности. Мне стало казаться, что я все же не понял, о чем просил Урин. Пытаюсь осмыслить происходящее, но от волнения ничего в голову не лезет. Осторожно взглянул на Урина, а он в знак поддержки мне головой кивает и незаметно большим пальцем в потолок тычет. Я осмелел, потряс плечами, пододвинул микрофон:
- Уважаемые товарищи, - начал я издалека, - может, и не совсем по теме, но вот наболело.
В зале насторожились, притихли:
- И я решил поделиться с вами своими мыслями, что беспокоит меня. Вам всем известно, сколько сил мы вкладываем в строительство «Глобуса поэтов», и нам хотелось бы уже видеть реальные результаты, тем более, что все прогрессивные поэты с надеждой на нас смотрят. Посмотрите, в мире что творится…
Урин понял, что еще немного и меня не остановить. Встал, поднял руку и со словами: «Я отвечу», решительно зашагал к трибуне.
Я вроде как в себя пришел и, по инерции, что-то еще невнятно пробормотав, поспешил вернуться на место.
Сел и только вижу, как Урин, непонятно кому кулак показывает, глаза раскраснелись, гневом пылает, слюни во все стороны, стены дрожат. Вот он показывает наше заявление, и в воздухе, как веером, машет. Достал из папки стопку бумаг и начинает цитировать выдержки из полученных со всего мира писем. Затем опять тычет пальцем в небо. А в конце, подняв кулак, показывает международный жест «но пасаран».
Ведущая, очевидно, отвечающая за это мероприятие - в оцепенении. Рвется на трибуну закончить разыгранное представление, но ее удерживают двое неизвестных парней, дают высказаться Урину до конца. Уже на выходе они же ко мне и подошли и вроде как между прочим поинтересовались, мол, что это мне вздумалось критикой заняться. А я находился в подавленном состоянии, шёл сам не свой, так как не совсем понял, что же произошло на самом деле, то в ответ им слабо и отнюдь не радостно улыбнулся и, как нашкодивший школьник, поспешил от них подальше.
У входа в метро меня догнал Баблу, потянул за рукав и отвел в сторону:
- Зачем тебе это нужно было?
- Он сам попросил.
- Я видел, он что-то тебе на ухо нашептывал. Но разве он не мог без тебя выйти к трибуне
Я ещё больше помрачнел и пожал плечами.
- Ты понимаешь, что он подставил тебя?
Я молча кивнул головой:
- Не бери в голову, я ведь ничего такого не сказал, только вопрос задал.
И вспомнил, как много лет тому назад, в восьмом классе я уже задавал вопрос учителю.
На следующий день о заявлении, сделанном Уриным в Доме дружбы народов, передавали все «вражеские голоса». В сообщении говорилось о том, что известный писатель Виктор Урин, выступая на международном форуме, пригрозил советским властям, что добровольно покинет стены Союза писателей СССР, членом которого он является многие годы, если ему не дадут достроить своё детище «Глобус поэтов» и объединить всех прогрессивных поэтов человечества
Здесь подоспела и очередная конференция Всемирной федерации демократической молодежи в Будапеште. Как по заказу, на этой конференции среди приглашенных оказался и уже нам знакомый Николас Гильен. И он выступил. Для полноты характеристики этого человека, как личности, приведу его небольшое стихотворение о нашей стране.
На поезде - по городам (я нахожусь в России) не видел я, присягу дам, "Для белых - здесь, для черных - там".
Кафе, автобус - не прочесть: "Для черных - там, для белых - здесь".
И в барах не встречалось нам "Для белых - здесь, для черных - там".
В отеле, в самолете, Нигде вы не прочтете: "Для черных - здесь, для белых - там",
"Для белых дам, для черных дам". В любви, в учебе - никогда: "Для черных - нет, для белых- да".
И люди их в краю моем, Когда мы руку подаем, На нас не смотрят свысока, Какой бы ни была рука.
Он, в присущей ему манере, с гневом обрушился на советских оппортунистов, которые засели в чиновничьих кабинетах и ставят палки в колеса Урину, губят замечательное начинание, коим является объединение всех прогрессивных писателей во имя мира на нашей планете.
Ему и невдомёк было, что в роли оппортунистов, на этот раз, выступает сама власть страны Советов, так слепо принятая им за идеальное государство.
31.
Тринадцатого сентября, в понедельник утром, меня разбудила оглушительными ударами в дверь староста курса Людмила Солова. Пришлось встать, натянуть брюки. Открыл.
- Тебе чего?
- Ты думаешь на занятия идти, или как!?
- Или как?
- А вот так. Я сегодня буду списки составлять, и декану на стол. Можешь продолжать дрыхнуть.
- Ну-у-у-у, Людочка, я как раз собирался уже, собираюсь. Вот ручку ищу, найти не могу. А так, я готов…
Прямолинейная, не понимающая юмора, между тем, круглая отличница, Людмила Алексеевна Солова, будущий аспирант, и вообще, такая вот крепко сложенная, с прекрасными семейными перспективами девица, стала шарить в своем портфеле с намерением предложить мне запасную ручку.
«Вот уж действительно, круглыми бывают не только дураки, но и отличники!» - всякий раз,- мысленно произношу я эту фразу, как только наши пути пересекаются, и мы обмениваемся с нею несколькими словами.
- Стоп, а вот это делать не надо, – пресекаю я ее намерение, одолжить мне ручку:
- Я уже вспомнил, где моя находится, ее вчера Руслан забрал, докладную дописать, его ручка не пишет, забарахлила.
- На кого докладную?
- На тебя, на кого же еще.
- Дурак ты и не лечишься! (Читатель не волнуйся, это она обо мне) В общем, я предупредила.
_________
Действительно, пора и совесть иметь, пришла мне в голову вот такая, на первый взгляд, странная мысль. Надо хотя бы ради приличия показаться на глаза преподавателям, засвидетельствовать свое почтение и засветиться на территории института в целом и в буфете нашего факультета, в частности. Там иногда воблу продают. А на лекции теперь уже ходить не обязательно, это ясно.
Мне как-то на первом курсе анекдот рассказали: «Сначала первокурсники со страхом говорят:
- Только бы не выгнали.
На третьем облегченно вздыхают:
- Теперь не выгонят.
А на пятом грозятся:
- Я им выгоню!»
Так этот анекдот стал вроде как генеральной линией моего поведения в стенах высшего… в смысле, ну вы поняли, учебного заведения. А я уже на последнем. Такие вот дела.
В первой декаде сентября появляться в институте даже неприлично, выпускник все-таки, неудобно. Первокурсники, другое дело, шарахаются от испуга в коридорах, да что там коридоры, в туалете у писсуара место уступают. Какая там очередь, зашел, значит, посторонись мелюзга, а то одним взглядом вышибу.
У нас впереди ведь, только государственные экзамены. А на государственных экзаменах никого не режут, это всем известно. Для преподавателей мы уже отрезанный ломоть, пройденный этап, побыстрее бы разделаться и забыть.
Иду по коридору, а мне навстречу мчится Галя Горохова и чуть ли не кричит, вся такая возбужденная:
- Я с ума сойду, Ваагн!
Я остановился и жду, к чему это она, чем еще озадачить меня решила.
- Ты представляешь, ужас какой! Наташа Лазарева от чёрного родила!
Её лицо исказила гримаса брезгливости и отвращения . Она смотрела на меня, ожидая, увидеть и на моём лице зеркальное отражение своего возбужденного состояния. Но я, глядя на нее, думал о другом, в моей памяти всплыл кубинский поэт, Николас Гильен со своими “На нас не смотрят свысока, какой бы ни была рука” - наивный, обманутый советской идеологией, человек.
Хотя, надо признаться, дернуло по самолюбию, вспомнил, как весной перед каникулами, спускаясь по лестнице к раздевалке, увидел Наташу. Ей кубинец Альваро плащ так элегантно подавал, и они, не замечая никого вокруг, улыбались друг другу, прямо светились от счастья. А он у нас такой, симпатяга-богатырь темно-каштанового цвета и весь в мускулах. "На экзотику потянуло",- подумал я тогда о Наташе, стараясь так пройти, чтобы она не заметила меня.
- Альваро?
- Да!
- Вот так тебе и новость, - невольно улыбнулся я, - ну и ну! Да! Огорошила ты меня. Не ожидал.
Подумать только!
- Её родители из дому выгнали, - начала трещать Галя, - а его депортировали за неуспеваемость. За шкирку и выкинули… Вот так-то!
Представил полное отчаяния заплаканное лицо мамы Наташи, тёти Вероники, грозного и гордого отца семейства Владимира Георгиевича, и от огорчения развел руками.
- Да, вот так новость, жалко родителей, - отвечаю ей.
- Ты ведь бывал у них?
- Заходил как-то, не помню, по какому-то поводу.
- Не надо, - возразила, ехидно ухмыляясь, Галя, - ты часто бывал у них. На тебя виды имели. Девочки только об этом и говорят.
- Не сказал бы, но ко мне тепло относились, как к земляку. А нас с Наташей всегда искрило, скандалили по-черному.
- Ты не обращал на нее внимания, вот она и кипела.
- Кто его знает. Она институт-то, будет заканчивать?
- Наташка? Она постоянно на лекциях, такая расфуфыренная сидит, ни подойти, ни подъехать.
- Вы так и не общаетесь?
- Нет.
- С первого курса это у вас?
- Ага.
- А с чего это началось?
- Я уже и не помню, - рассмеялась Галя, - ну пока!
________
В этот день Наташа не пришла на занятия. Не было её и в следующие дни недели. Появилась только в пятницу. Во время перерыва кто-то подошел сзади и ладонями прикрыл мне глаза.
- Наташа! – не задумываясь, выпалил я, и точно, угадал, она.
Раздался знакомый заливистый смех. Повернулся - Наташа Лазарева, собственной персоной, такая же красивая, собранная и сверх меры жизнерадостная. Прямо прет из нее уверенный настрой, пышет энергией.
- Какая ты?! – удивился я, - классно выглядишь.
- А только так, и никак иначе, - парирует Наташа, а у самой глаза огнем горят.
- Мне рассказали… Это правда?
- Конечно, правда, такая красатулька у меня, мальчик.
- А с кем он сейчас?
- В Доме малютки, я его по субботам забираю. Пока… а там посмотрим,- уже спокойнее пояснила Наташа.
- Ему комфортно там?
- Поняла тебя, успокойся, там все такие.
32. Остров Сахалин
В первых числах октября к нам в аудиторию заглянула замдекана Валентина Семеновна. И эдак безапелляционно махнула мне рукой, мол, давай сюда. Девушки тут же отреагировали:
- Иди, иди, ждут, не дождутся там тебя. Скоро и до Надежды Ивановны доберешься.
Надежда Ивановна - самый старый по возрасту преподаватель, ей лет семьдесят, не меньше. Думаю, намёк читателю понятен.
- Не каркать, - огрызнулся я и отправился к двери, по пути лихорадочно вспоминая, что у меня запланировано на вечер.
- Пошли ко мне, дело есть, – заговорщически улыбаясь, шепнула Валентина Семеновна и, взяв меня за руку, потащила в деканат. А в деканате - народу, не протолкнуться. Мы добрались до хорошо известного мне кожаного дивана и оккупировали свободный участок.
- Ты куда решил податься работать? Какие планы-то у тебя?
- Не думал пока. А что?
- Вот дает мужик, - всплеснула она руками и посмотрела на меня как на ребёнка, - значит так, есть возможность поехать на Сахалин работать. Как смотришь на это?
- На Сахалин?
- Ну да.
- Это рядом с Японией?
- Горе ты моё. Ты даже не можешь представить, как все мечтают туда попасть. На Сахалин ведь только по спец. пропускам попадают. Природа! Слов нет, красотища! Такая возможность только раз в сто лет... Лопухи там с человеческий рост…
- Мало им своих лопухов ?
Валентина Семеновна ухмыльнулась, затолкала в пепельницу недокуренную сигарету и погладила меня по руке:
- Советую, настоятельно советую. Потом благодарить меня будешь И ещё как благодарить!
- А как туда попасть?
- Вот это уже теплее, конкретный разговор пошел. Сейчас, еще два дня, в гостинице Москва, в 325 номере будет находиться секретарь Сахалинского обкома Мария Петровна Седокова. Нужно к ней подойти и сказать, мол, у вас хочу работать. Она всё сделает. Только её подловить нужно.
- Вот ни с того, ни с сего заявлюсь, и она…
- Да, смелее только, мол, работать у вас хочу, не подведу и прочее.
- Я вообще-то в Москве хотел остаться.
- Не надоела тебе эта Москва!? Были бы возможности, я бы давным-давно слиняла отсюда. Значит так, после занятий сразу к ней и сидишь до упора, ждёшь. Подходишь, прямо говоришь. Если не сработает, обсудим, что-нибудь придумаем. Хорошо?
- Посмотрим, - неуверенно ответил я, - а пропустят меня, это ведь третий этаж?
- С твоими-то способностями... - разулыбалась Валентина Семеновна, и уверенно добавила:
- Разберёшься.
- И не сомневайтесь, - зарделся я и пробежал недвусмысленным взглядом по ее ладно скроенной фигуре, подчеркивая свое намерение задержаться в послерабочее время в деканате.
- Эти дни я занята, - сладостно улыбнулась Валентина, - муж ремонт затеял, в квартире полно рабочих, сразу после занятий убегаю. На следующей неделе, даст Бог, закончим, тогда и задержаться смогу.
- Ладно, - глубоко вздохнул я и, скорчив несчастную гримасу, поплелся в аудиторию.
33. Секретарь Обкома
На следующий день отправился в гостиницу Москва. Портье сразу обратил на меня внимание. Он шагнул, было, мне навстречу, но вроде, как что-то вспомнив, отвернулся и уставился в окно. Синхронно с коллегой, закопалась у себя под стойкой и администратор, только затылок наружу виден, вся под столом где-то.
Я, пользуясь удобным моментом и как ни в чем не бывало, усталой походкой подхожу к лифту и мысленно взлетаю на третий этаж. Но лифт предательски медлит. Чувствую спинным мозгом, как сверлят сейчас портье и администратор любопытными профессиональными глазами мою спину, но почему-то окликнуть, расспросить «куда и зачем» не решаются. Наконец раздвигаются двери лифта, и, грозя прищемить мне одну из пяток, тут же сдвигаются, но я оказываюсь проворнее и в мгновение ока врываюсь внутрь, в полутьму куба объёмом с придорожный туалет и со смердящим запахом, слегка напоминающим указанное заведение. Я не оговорился: в полутьму, так как едва мерцающая лампочка под потолком в силах была только себя осветить, обозначить свое присутствие.
Таким образом (имею удовольствие констатировать), проявляя молодецкую удаль и сноровку, я не даю себя обидеть, а заодно и оставляю в целости и сохранности свои пятки. Лифт, вздрагивая и кряхтя, тяжело ползет вверх, словно бы последний раз его год назад кормили, в смысле, смазывали .
Вот и третий этаж, и, удивительно, из персонала никого. Я на радостях глубоко вздохнул. Мало ли, выйдет навстречу здоровенная бабенция в серо-грязном халате и буянить начнет, враз на улице окажусь. Вроде бы начало хорошее, сам с собою соглашаюсь я, и робко стучу в дверь под номером 325. Но, как и ожидалось, никто не ответил.
Неподалеку, метрах в десяти, стоит вполне сносный диван, такой не стыдно и у себя в гостиную поставить. (Правда, у меня пока нет гостиной. Это я гипотетически рассуждаю) Уселся я, выудил из портфеля свежие газеты и занялся изучением портрета «горячо любимого», на первой обложке. Обычно, когда в стране ничего не происходит, на этом месте его портрет печатают. И правильно. Не оставлять же пустой эту страницу. Значит, взлетом бровей любуюсь, пересчитываю его награды, рядами уложенные на широкой груди. Складывается впечатление, что эти награды - замаскированный бронежилет, который не только пистолетом, но и автоматом не прошибешь, так плотно уложены. А заодно и на дверь под номером 325 поглядываю, не пропустить бы. Ведь она может вернуться и сразу от усталости в постель, тогда стучи не стучи - пользы никакой.
А по коридору ходят всякие женщины, и толстые, и тонкие, и с папками, и без, правда, все мимо. Пока не в «мою» дверь вставляют ключи. Но вот одна дамочка подошла к двери, остановилась. Я напрягся, готовый к прыжку. Она заметила молодого человека, удобно расположившегося, на уже известном читателю, диване, измерила его, то есть меня, с ног до головы, и стала в своей сумке копаться. Сейчас достанет ключ, думаю, и… я должен рядом быть. Необходимую фразу загодя заготовил, раз десять скороговоркой повторил, чтобы естественно прозвучало. Нужно будет подойти и, не мешкая, выпалить: «Здравствуйте Мария Петровна!» А она все копается, нервничает. Достала расческу, блокнот, зеркало. Что- то сверила в блокноте и в сумку кинула. Посмотрела на себя в зеркало, пару раз гребешком взмахнула, достала из кармана помаду, прошлась по губам. Затем эти предметы первой необходимости для любой женщины, желающей приятно выглядеть, положила обратно, но почему-то не стала открывать «мою» дверь, а подошла к следующей под номером 326 и постучала. Дверь тотчас же приоткрылась и показалась взъерошенная голова мужчины.
- Я по вызову, - коротко представилась она.
Мужчина легким нажатием руки устранил препятствие между ним и гостьей, именуемое в документах “Мосгорстроя” дверью, и дамочка, вроде как с опаской, прошла в комнату. Дверь с треском захлопнулась, и только слышно было, как проворачивается ключ в замке.
Тут я сообразил, что это не секретарь Обкома, хотя и прилично смотрелась. Я расслабился, выудил из стопки газет в портфеле ещё одну наугад. Газету «Известия», по значимости вторую из газет издаваемых в нашей, самой начитанной и образованной, если верить советской статистике, стране. Кстати, о нашей стране, очень точно подмечено в одной задорной песенке. Помните? «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Ведь действительно, вольно мы только дышать и имели право. Пока, во всяком случае.
Но я отвлёкся.
Разворачиваю газету и сразу перешагиваю на третью страницу, так как на первой и второй смотреть нечего, там, словно под копирку, все слизано из газеты «Правда». Углубляюсь в чтение. Столько интересного начитал. Подумать только, оказывается: в Кишиневе состоялся семинар по теме "Преимущество плановой организации, повышения качества и снижения себестоимости строительства и капитального ремонта жилищного фонда в условиях развитого социализма в СССР перед капиталистическими странами". Трижды перечитывал заголовок пока въехал о чём речь идет. Читатель, а ты и не пытайся понять, куда тебе до меня, мозги не те. А в Минске на научной конференции состоялось обсуждение «Об оперативном освещении в прессе успешного ускорения научно-технического прогресса в Девятой пятилетке". И самое интересное, (предвижу, какие сейчас очереди у книжных магазинов), как сообщала газета, в продажу поступила книга «Народное хозяйство Бурятской АССР».
А в это же время в США двое сыновей убитого сенатора Роберта Кеннеди были замечены (подумать только!) в очереди на бирже труда. А в Испании на корриде, от чрезмерного волнения, стало плохо пенсионеру, внучка которого в интервью местной газете “El Pais” назвала корриду пережитком прошлого, имеющего место быть в достаточном количестве в капиталистическом мире и потребовала запретить проведение подобных зрелищ. А во Франции, в частности, в Париже, у молодого поколения и вовсе пропал интерес к предстоящим муниципальным выборам из-за отсутствия веры в светлое завтра, то же самое и в ФРГ наблюдается. По итогам социального опроса проведенного, оппозиционной партией “Немецкий народный союз” в стране среди молодежи преобладает упадническое настроение. Хотя в ГДР по сообщениям синоптиков на ближайшие дни ожидается хорошая солнечная погода. Но это не всё: итальянские студенты распоясались: устроили сидячую забастовку, пытаясь привлечь внимание общественности и своего правительства к надвигающейся экологической катастрофе; потому как на грани вымирания находится птица каменный дрозд . Как известно, пение этой птицы звучит довольно-таки мелодично. Вот и студенты, расположившись на вершине Капитолийского холма, время от времени имитируют это пение, пугают прохожих, создают неудобства жителям столицы Италии. А полиция бездействует, не усматривает в поведении студентов нарушения общественного порядка…
34. Заявление
Вдруг я слышу:
- Вы ко мне, молодой человек?
Я вздрогнул, обернулся. Напротив «моей» двери стоит привлекательная дама и улыбается мне. Вкралось сомнение, а вдруг она тоже девочка по вызову. Или меня приняла за мальчика по тому же назначению.
Дама устала ждать, пока я очухаюсь, и, продолжая улыбаться, спросила:
- Хорошо расположились, не хочется вставать?
Я вконец растерялся, бросил газету на диван, упёрся руками о сиденье и легко вскочил на ноги, схватил расстегнутый портфель под мышку и к ней:
- Здравствуйте, Мария Петровна!
- Ну, проходи, посмотрим, что у тебя.
Пропустила меня вперед. Я оказался в просторном номере, справа видна кухня, следом полуоткрытая дверь в спальную комнату, видна широкая двуспальная кровать. В левом углу - рабочий стол с настольной лампой, в центре - журнальный столик, заваленный газетами. «Ничего себе люкс, однако! », - свистнул я тихонечко и мысленно оценил возможности и потребности наших избранников, в смысле слуг народа.
- Располагайся, садись, - Мария Петровна показала рукой на кресло у журнального стола.
Я продолжал стоять, ждал когда она соизволит меня выслушать.
- Чай будешь? – еще более удивила меня Мария Петровна и прошла на кухню. Через минуту появилась с тарелкой, наполненной печеньем и конфетами.
- Проходи, проходи, - она подтолкнула меня к креслу. Я, повинуясь, уселся, поставил рядом с собой портфель.
- Мария Петровна, - наконец-то, я собрался с духом и начал объяснять цель моего визита, - я заканчиваю институт, педагогический, и хочу на Сахалин, к вам, у вас работать.
Озвучить запланированную фразу о том, как я мечтаю работать на Сахалине, я забыл. Сказалось волнение, но особо убеждать и не было надобности. Потому как, Мария Петровна, показывая неподдельное удивление, широко раскрыла глаза и, лукаво посматривая на меня, сказала:
- Нам нужны хорошие кадры. Почему бы и нет. Надо подумать, как это сделать, - медленно произнесла она.
Опять прошла на кухню и тотчас же вернулась, с чайником и двумя стаканами.
- Мария Петровна, я поэт, пишу стихи, вот. Постоянно печатаюсь в нашей институтской газете «Ленинец», являюсь внештатным корреспондентом «Московского комсомольца» и хотел бы не в школе, а в газете… какой-нибудь.
Она опустилась в кресло напротив и принялась оценивающим взглядом рассматривать меня. Затем, сделав пару глотков горячего чая, облокотилась о край стола, сложила кисти рук лодочкой под подбородком и после минутной паузы, вдоволь налюбовавшись моей физиономией, спросила:
- Районная тебя устроит?
- Да! Конечно! – у меня заблестели глаза от радости и я усердно закивал головой.
Мария Петровна улыбнулась, пододвинула поближе ко мне стакан горячего чая, из общей тарелки переложила в маленькое блюдце несколько печенек и конфет.
- Пей, не стесняйся. А мы вот так поступим, - сказала она и поднялась с места, прошла к рабочему столу, взяла пару листов бумаги и ручку, положила передо мной.
- Мы сейчас подготовим письмо на имя ректора, изложим твою просьбу - желание работать в Сахалинской области. А я припишу от себя, что работой ты будешь обеспечен. Согласен?
Я толком ничего не понял, но на всякий случай кивнул головой.
- Как зовут вашего ректора?
- Кашутин Павел Александрович.
- Вот и начнем. Значит так, пиши - Уважаемый Кашутин Павел Александрович … - и слуга народа, по совместительству секретарь Обкома партии Сахалинской области Мария Петровна стала мне диктовать, а я, как послушный ученик, спешил записывать. Нужно отметить, что точку в конце заявления я поставил самостоятельно, значительно опережая намерение Марии Петровны указать на это.
Затем она, с трудом разбираясь в моих каракулях, перечитала заявление, пользуясь той же ручкой, исправила несколько ошибок. Добавила от себя соответствующий текст и расписалась. Из светло-бежевой сумки натуральной крокодиловой кожи достала печать. Глубоко вдыхая и выдыхая она поднесла печать к своим губам и резким движением приложила к своей подписи.
35.
Только лишь спустя несколько лет, когда грозовые тучи стали сгущаться над моей головой, мне вспомнилась эта встреча и предшествующие ей события. Возник целый ряд вопросов.
Тому, что Валентина Семеновна спокойно отсылает меня на край света, я имел объяснение. Скорее всего, у нее появился новый фаворит и, может быть, это тот краснощекий туркмен со второго курса. Я понимал, что ремонт квартиры - это всего лишь отговорка.
Но как смогла Мария Петровна определить, в гостинице, что человек, который сидит за несколько дверей от её номера, пришел к ней, и ждет её? Это ведь коридор, а не приемная секретаря Обкома, где любой посторонний - это посетитель и которого, хочешь не хочешь, а принять нужно. Ещё и заговорила со мной в полной уверенности, что обращается по адресу. Чаем угостила, бумагой пожертвовала, само заявление продиктовала. А я, дурень, избалованный вниманием со стороны преподавательниц бальзаковского возраста, принял её заботливое обхождение, как должное. Да если бы у нее были определенные намерения, тогда зачем было бы ей ждать моего приезда на Сахалин? Двуспальная кровать рядом. А потом, как меня пропустили в гостиницу? Один уставился в окно, другая под стол залезла. А горничная на этаже? Я ведь не раз и не два сталкивался с такой ситуацией, когда, как только раскрываются двери лифта, горничная тут же из своей каптёрки выглядывает. Ни одна мышь мимо не проскочит, а я минут сорок сидел, её так и не увидел.
Вопросы, вопросы, вопросы, но об этом я задумаюсь лишь потом, спустя годы, когда, повторюсь, грозовые тучи сгустятся над моей головой.
А пока я, окрылённый и счастливый, ехал к себе в общагу с твердым намерением рано утром передать заявление в ректорат института.
36. Последний год учебы
Прошел месяц после той «исторической» встречи с Марией Петровной, одним из лидеров коммунистической партии самого большого острова нашей страны - Сахалина.
В первые два-три дня я с особым настроением ожидал реакции из ректората на мое заявление. Думалось, пригласят или более прозаично, вызовут и начнут с неподдельным, либо наоборот, мнимым интересом расспрашивать, что там и как. А я стану бить себя в грудь, уверять, мол, с детства мечтаю. Или нет, не так, всю свою сознательную жизнь о Сахалине только и думаю. Можно для верности и слезу пустить, и по лицу размазать.
Однако, серые, ничем не примечательные дни с завидным постоянством сменяли друг друга, а руководство моего учебного заведения не подавало признаков “жизни”.
Походил я еще несколько дней в состоянии ожидания, затем опустился на землю и стал добросовестно, чего никогда в моей учебной практике не бывало, посещать лекции. На семинарских занятиях, состроив умное лицо, задавал умные вопросы, этим самым утверждал свое активное участие в развитии педагогической науки, а заодно и оживлял скучную атмосферу, царившую в аудитории.
На всякий случай, побывал в Научной педагогической библиотеке имени К.Д. Ушинского, отыскал книгу «Сахалинская область. Основные показатели», прошелся по страницам. Обрадовало то, что партийная организация острова из года в год получает за успешное развитие сельского хозяйства переходящее Красное знамя Совета министров СССР, что треть выловленной рыбной продукции в СССР приходится на рыболовные хозяйства острова. Вот только надои молока оставляли желать лучшего, но это меня нисколько не огорчало, так как я к молоку с детства равнодушен.
Изучая карту, я с удовлетворением отметил, что Сахалин находится именно там, где я и предполагал. Из Географического словаря “позаимствовал” страницу с картой Дальнего Востока, чтобы вечером ребятам в общаге показать, куда я намерился податься. Обратил внимание на то, что, действительно, на Сахалине лопухи с человеческий рост вырастают.
“Вот еще один прибавится”, - посмеялся я над собой, вспомнив разговор с Валентиной Семеновной.
А Валентина какая-то озабоченная ходит, мечется чего-то, нервничает. То, что к нам в аудиторию не заглядывает, это еще куда ни шло, в коридоре все мимо норовит проскочить, вроде как не замечает. Её прохладное отношение не особо расстраивает, тем более, что какая-то она неухоженная, вроде как только спросонья. Лицо серое, осунувшееся и платье того же цвета и привлекательности. Мне хотелось всего лишь рассказать ей, поделиться впечатлением от встречи в гостинице и только.
Еще и молодой туркмен, со второго курса, масло в огонь подливает, свой нубийский нос задрав, победителем ходит, на меня свысока посматривает. Сорока на на хвосте принесла, что он теперь у нее в фаворитах. Говорят, ей прилюдно семейные разборки устраивает.
«Так тебе и надо, - злорадствовал я, - это я готов был часами вокруг учебного корпуса круги нарезать в ожидании, когда меня принять изволят».
Еще через некоторое время я даже радоваться стал безучастной тишине, царящей в недрах ректората. А к весне полностью выветрилась из головы эта встреча «на высоком уровне».
Лишь изредка я вспоминал загадочную улыбку моей несостоявшейся (как я думал) покровительницы. Ее образ постепенно растворялся в моей памяти, принимая расплывчатые, сходящие на нет, очертания.
«В самом деле, - думал я, - секретарша из ректората наверняка ничего не поняла, повертела в руках более чем странную бумажку, затем усмехаясь, покрутила пальцем у виска и бережно опустила драгоценный листок в мусорную корзину".
По большому счету, причем тут Сахалин, причем тут секретарь Обкома, когда Сахалинский пединститут и понятия не имеет, куда своих выпускников деть?
Что им до тех, которые к ним из Москвы прут, овеянные романтикой прошлого века? И наконец, мало ли что она там надписала, в порыве неизвестных, недостаточно изученных наукой чувств, очевидно замешанных на сексуальных фантазиях, дама не первой свежести, представительница властных структур.
Как ни странно, но меня не особо волновало и то, куда все же меня направят.
То, что не оставят в Москве, это точно, тут и к гадалке ходить не надо, поскольку ни оценок хороших не имелось, ни достойного рвения в учебе не наблюдалось. И к тому же у нас на потоке большую часть студенток составляли москвички, которые для гарантии обзавелись еще и липовыми брачными контрактами.
Изредка вспоминалась Наташа и ее властные родители. В свое время Георгий Владимирович не раз и не два бахвалился, что ему в силах трудоустроить нас с Наташей в любом желаемом учреждении, в пределах Московского кольца. Но появление внука, с цветом кожи спелого баклажана, расстроило все планы, и не было никакого смысла им глаза мозолить, о себе напоминать.
37.
Летние каникулы я провёл под Москвой в пионерском лагере «Орлёнок», на этот раз в ранге старшего пионервожатого. В Москву вернулся в первых числах августа.
Утром, спозаранку, отправился на почтамт заказать переговоры с однокурсником Колей Сайгушевым из Мордовии, напомнить о моей просьбе, привезти художественные альбомы с работами мордовского скульптора Степана Эрьзи. Меня в свое время поразила до глубины души его скульптура «Лев Толстой», вот и захотелось побольше узнать об этом необычном, так скажем, по своему почерку и стилю, не совсем советском скульпторе.
У перехода остановился на красный свет и, глазея по сторонам, обратил внимание на мужчину со свежим номером «Московской правды». На развороте газеты увидел имя в чёрной рамке, напечатанное крупными буквами «Михаил Луконин» и его портрет, обрамленный траурным крепом. Вздрогнул, увидев знакомое лицо.
Михаил Луконин умер. Калейдоскоп воспоминаний закружился в голове. Замелькали по цепочке Урин, дача, Львов... Эта смерть глубоко потрясла меня ещё и потому, что, о кончине человека, с которым мне посчастливилось общаться, мне рассказали не бабки у подъезда, а в газете прочитал, что ни говори, а это обстоятельство повышает твой личный статус.
Купил номер газеты «Московская правда» с прискорбным известием, перечитал соболезнования по этому случаю, и на развороте подборку стихов известных поэтов, посвященных ушедшему из жизни коллеги. Среди них оказалось и стихотворение Михаила Львова. Такое уж просоветское, прямо скажем, ничем не примечательное, написанное по принципу: «Смерть вырвала из наших рядов классного мужика, который по причине плохого здоровья не дожил до коммунизма». Конечно, я утрирую, может быть и не к месту, но там, действительно, были одни штампы, в общем, дежурные слова. Сложилось мнение, что позвонили, сказали: «Надо!».
Он сел и написал, не особо напрягаясь. Запомнилось четверостишие:
И в этом мире меньше стало На одного его певца. Хоть жизнь страниц не долистала, Хоть не дожита до конца…
Весь день я провел в тягостных раздумьях, скорбя по Луконину, а к концу дня спохватился и отправился в ЦДЛ, надеясь застать там Михаила Львова, о себе напомнить и выразить соболезнование.
Входная дверь ЦДЛ оказалась настежь открытой. Молодые люди, рабочие сновали взад-вперед, переносили стулья, подтягивали шторы, убирали лишние предметы, готовились к похоронам. В фойе установлен огромный портрет в траурных лентах, цветы, венки, чуть слышно звучит симфоническая музыка.
Поднялся к Михаилу Львову, у него дверь полуоткрыта. Зашел, Михаил Давыдович мельком взглянул, махнул рукой в сторону стула, мол, сядь и, не обращая на меня внимания, продолжил говорить по телефону; как я понял, согласовывал список ораторов на похоронах. Он положил трубку, устало посмотрел на меня и я услышал:
- Нету Миши, Ваагн.
Меня сразил его слабый голос и глаза, полные скорби и печали.
Мы редко верим в искренность взаимоотношений известных публичных людей, порою кажется, что улыбки, комплименты, объятия, которыми они одаривают друг друга, являются ширмой, скрывающей тайную зависть, жгучую ненависть и прочее шипение, но я воочию убедился, как Львов глубоко переживает эту смерть:
- Я прочёл в «Московский правде» ваше стихотворение, - с трудом выдавил из себя я и почувствовал, как оказываюсь под воздействием его подавленного состояния.
Услышав это, Михаил Давыдович, вроде как поморщился, выдвинул нижний ящик рабочего стола, отыскал несколько бумаг, определил их очередность, сложил вчетверо и протянул мне.
- Потом прочитаешь, а пока иди. Приходи завтра на панихиду.
- Буду, обязательно буду, - кивнул я головой.
Вышел из ЦДЛ и, не спеша, побрел к автобусной остановке. По пути достал листочки Львова. А там еще одно стихотворение на смерть Луконина. Это озадачило и удивило меня. “Какая-то интрига здесь есть”, - подумал я, стал читать, и не ошибся.
Привожу это стихотворение целиком - оно стоит того.
На смерть Луконина.
Луконин… Что сказать теперь,
Луконин...
Уходишь в землю, как там не суди,
Но, как явленье, ты не похоронен-
Живучий лик трагической судьбы.
От менестрелей, гусляров и бардов,
Мы верили, – исходит голос твой,
Но мог ли ты инфаркты-миокарда
Своей эпохи выразить собой?
В свой школьный класс со ставенькой точеной
Ты в разноцветных валенках ходил:
Один был белый, а другой был черный.
Лишь тот поймёт, кто так же беден был
Казалось рать 17-ого года
Особо для тебя схватила власть.
Взамен одной другая несвобода
И в эту лямку жизнь твоя впряглась.
Ты мог строфу взломать по-Маяковски,
Как льды на Волге – лихо-горячо,
И, вдруг, традиционные обноски
Надеть на подчиненное плечо.
Пусть кто-то скажет - баловень успеха…
Но как ты непоказанно страдал.
О том лишь ведает в Заволжье эхо,
Да хуторской лиманный краснотал.
Прощай, порыв к возвышенным идеям,
Прощай, росток Буковых хуторов,
Приволжский клён, задетый суховеем,
Служенье и сложение стихов.
Я помню, ты мне говорил устало,
В какой-то затаившейся тоске:
- Порой чем больше на груди металла,
Тем, вроде, меньше золота в строке.
Ты говорил мне: "Есть одна обуза.
Сказал бы, да накладно чересчур,
Что нет на свете тяжелее груза,
Чем жить в стране вранья и авантюр.
За недосказ душа платила пенни,
Опасные кредиты разорив,
И, как ладья, твоё сердцебиение
Разбилось в испытаниях на разрыв.
Да, обнимала жизнь, твоя подруга…
Да, ты рождал моря поэмных строк,
Но не было спасательного круга,
А был замок и, вот - теперь венок.
Ты был поэт, от Бога самороден,
Но слишком помешала та игра,
Где льготный ордер и завидный орден,
И Новодевичий разряд одра.
Прощай же, футболист годов тридцатых,
Прощай же, цеховой наш побратим,
Садовник в поэтических пенатах,
Всех континентов быстрый пилигрим...
Узнать бы нам: в чьих думах сохранится
Твой облик – недосказанность и боль.
Что скажут в некрологе за границей?
Поймут ли там твоих творений соль?
Певцы от Ганга до Гвадалквивира
Какую тебе почесть воздадут?
В сей день оплаканный цветами мира
И, горше прочих, – глазками Анют.
И это все…
Что говорить, Луконин...
Уходишь в землю, как там не суди…
Но, как явленье, ты не похоронен -
Живучий лик трагической судьбы...
Должен признаться, что дочитывал я это стихотворение, уже волнуясь и оглядываясь. Первое, что пришло в голову, не следят ли за мной наши славные органы, которые всегда начеку? Стало жутко. Это ведь откровенная антисоветчина и за хранение и, более того, распространение можно угодить в места, не столь отдаленные, и на длительный срок.
С другой стороны, как мог Львов при такой должности, будучи одним из привилегированных писателей, отважиться на такое. Более того, как он мог довериться человеку, которого практически не знает. Неужто он меня считает своим доверенным лицом, а я не в курсе? И как быть теперь с этим стихотворением? Спрятать? Если за мной следят, то все мои ухищрения бессмысленны — найдут. Еще и срок добавят. Разорвать, уничтожить, а вдруг Львов в спешке мне не то дал и при первой встрече попросит вернуть. Еще и выяснится, что это единственный экземпляр, тогда прощай ЦДЛ и к Львову ни на шаг.
“Ни рвать, ни прятать”, - решаю я, - между книг в портфеле пусть лежит, а там как сложится. А потом не такое оно уж и антисоветское, размышляю я, и подсознательно готовлю себе алиби, так, на всякий случай. Пытаюсь сфабриковать оправдание, чтобы оно хоть немножко правдоподобным казалось:
“Никаких призывов там нет. По большому счету я его и не понял, как-то туманно все, запутано. Откуда оно у меня? На Арбате кто-то подсунул, чего скрывать. Зачем? Не знаю, так, всунули мне в руки, а я эти листочки положил в портфель, думаю, потом почитаю и забыл о них. Вот вы обнаружили их, я и вспомнил.”
Это я уже на тот случай, если обложат меня и произведут обыск в портфеле. Так в тревоге за свое незавидное будущее и добрался до общаги.
Но прошли дни, недели, годы - сохранил я это стихотворение и храню до сих пор. Сорок с лишним лет прошло. Давно уже нет Михаила Львова, да и советская власть приказала долго жить. А это стихотворение, написанное не для печати, а потому искреннее, настоящее, и сегодня не может оставить равнодушным любого, кто жил при той власти, познал все сладости и горести. Поэтому я его и выставляю на всеобщее обозрение, тем более что, может, оно в единственном экземпляре и сохранилось, кто знает?
Но мне кажется, я понял, эта мысль мне недавно в голову пришла, почему Львов отдал мне это способное любого скомпрометировать стихотворение. Я думаю, он наоборот желал, чтобы я не прятал, а распространил это стихотворение среди студентов, очевидно, назрели вопросы, которые не устраивали его, скорее всего, бытового характера. Либо просто накипело, и ему нужен был «диалог» с советской властью. Прямо скажем, «лез на рожон», чтобы заявить о своем несогласии по наболевшей для него теме, либо, возможно и такое, выторговать очередные привилегии. Советская власть в те годы выборочно штамповала диссидентов, чтобы потом «успешно» бороться с ними. В некоторых случаях правители шли навстречу одиозным деятелям культуры и искусства, задабривали и своими уступками гасили разгорающийся конфликт.
Самый яркий пример того периода - это история с художником Ильей Глазуновым. Он за день до открытия своей персональной выставки заявил, что не откроет выставку до тех пор, пока ему не дадут возможность выставить главную картину своей жизни «Мистерию XX века». Речь шла об огромном полотне, примерно 16-18 квадратных метров, на котором он поместил портреты многих видных деятелей политики, имеющих совершенно противоположные политические взгляды, деятелей культуры двадцатого столетия, не всегда лояльных к советской власти. Здесь и ненавистный советским коммунистам китайский ревизионист Мао Цзэдун, Иосиф Сталин, лежащий в кровавой пелене, Адольф Гитлер и Бенито Муссолини, Мик Джагер, группа “Битлз” в полном составе, Мерилин Монро и так далее. На полотне художник поместил небольшое зеркало, чтобы каждый созерцающий эту картину, увидев себя на полотне, почувствовал свою сопричастность ко всему происходящему вокруг. То есть, социалистическим реализмом там и не пахло. Картину, конечно, он не выставил, уговорили, но и в накладе не остался. Правда, чего он добивался, и на какие уступки в данном случае пошла советская власть, об этом история умалчивает, но если вспомнить, что однажды правительство Москвы уже выделило Глазунову полных два этажа в многоквартирном элитном жилом доме становится понятным смысл этого демарша, намерения, претензии, требования. Насколько мне известно верхний этаж он отвел под мастерскую, а нижний под личные апартаменты. Но я опять отвлёкся.
38. Институт. Последние дни.
В день торжественного вручения нагрудных значков или - ромбиков, свидетельствующих о наличии у его обладателя высшего образования и корочек, подтверждающих это, и распределения рабочих мест дальнейшей дислокации новоиспеченных специалистов - ажиотаж.
Девушки - разодетые, напомаженные, на высоких каблучках и над ними, словно нимб над головой, головокружительный аромат духов.
Ребята, в свою очередь,- в костюмах московской фабрики «Большевичка», в белоснежных рубашках с разноцветными галстуками. Некоторые под градусом и в связи с этим отличающиеся особой игривой походкой. А впрочем, это только начало, так как, под костюмами у них угадывались некие предметы слегка напоминающие форму пол-литровой бутылки.
И преподаватели - рот до ушей, всех приветствуют, делают наставления, желают удачи, стреляют сигареты, в общем, все свои в доску.
В актовом зале набилось человек триста, здесь и родители, и братья и сестры по вере и разуму, а также братья и сестры по крови, между рядами мелькают детские головки. Замечены и прочие родственники и друзья...
______
Проректор института Геннадий Семенович, открывая общее собрание студентов-выпускников, постучал пальцем по микрофону приглашая всех обратить на него внимание. Самодовольно закряхтел, поправил съехавший набок галстук серого цвета, который мы еще на первом курсе имели удовольствие созерцать, и объявил о начале самой торжественной, самой волнующей, как он выразился, минуты в студенческой жизни каждого выпускника.
Началось распределение и народ оживился: посыпались аплодисменты, возгласы радости и огорчения, завистливые реплики. Вспыхивали словесные перепалки и раздавались призывы поддерживать порядок.
«Угомонитесь!», «Нашли место отношения выяснять!» эти и другие реплики тонули в гуле возбужденных людей.
Вдруг Геннадий Семенович опустил голову, уставился в бумажку, посерьезнел, и в зале воцарилась тишина, а я, непонятно почему, напрягся.
- Тут вот какое дело, - начал он издалека, - к нам обратились наши коллеги, товарищи, можно сказать, по цеху, прислать к ним самого-самого…
Я замер, но сердце успокоилось: «Понятно, что это не я самый-самый! Не может быть!? Не дай-то Бог…»
- Мол, вы - первый вуз в нашей стране, - продолжил после небольшой паузы Геннадий Семенович, - мы с вас берем пример. Работаем, так сказать, по учебникам, авторами которых ваши преподаватели являются. Вот и пришлите к нам вашего самого-самого, чтобы не по телевизору, а так, чтобы можно было рукой дотронуться, подышать с ним одним воздухом, на практике убедиться.
- А кто эти коллеги? – послышалась реплика из зала.
- А я не сказал? – удивленно пожал плечами Геннадий Семенович, не отрываясь от бумаги.- Как кто? Вот запрос получили, все как положено, и мы решили удовлетворить их просьбу.
Глядя на его неуверенное бормотание, мне в голову стукнула мысль, что он, как совестливый, честный человек, к тому же не имеющий актерских данных, не в силах справиться с возложенной на него некоей миссией.
- Геннадий Семеныч, не тяни резину! – встал с места и пробасил мужчина весом килограммов под сто пятьдесят.
- А вы что, не поняли? Я ведь ясно изъясняюсь, - теперь уже совсем растерялся проректор, привстал и, потрясая листком бумаги, стал зачитывать текст. Лицо его побагровело, руки нервно затряслись, как у пьяницы, оставшегося на утро без опохмелки. Теперь я уже не сомневался в том, что он осознаёт, что совершает нечто противоестественное его внутренним убеждениям, оттого и нервничает. Листок так и прыгал вверх-вниз:
- Просим вас направить к нам на работу, и подпись стоит. Заведующий областным отделом народного образования товарищ Охлобыстин.
- Геннадий Семенович, – завизжали несколько женщин, - область-то какая?!
- Из какой области просят?!
- Дурдом какой-то!!!
- Б…дь, до инфаркта доведёт!
- Успокойтесь, чего это вы? - не понимая, что происходит, стал успокаивать народ Геннадий Семенович:
- Вот мы и решили…
- У-у-у-у-у, - загудели, вконец измученные люди.
Молодая бойкая преподавательница, по слухам родственница первого секретаря Московского горкома партии Виктора Гришина, поднялась в президиум, выхватила у незадачливого проректора измятый листок и, пытаясь всех перекричать, забасила:
- Товарищи, просьба из Сахалина, из Сахалинской области!
Услышав слово Сахалин, я совсем обмяк, но все еще не верилось. Он ведь ясно сказал, просят лучшего из лучших. Я тут причем? Меня отнести к самым лучшим - никакой фантазии не хватит!
Женская половина зала восприняла сказанное с недоумением, и, пожимая плечами и насмехаясь, стали рассаживаться по местам.
- Ну, и кого вы решили послать? – обратилась к проректору не вставая с места одна из почасовиков нашего факультета.
Наступила тишина, ставшая кульминацией этого тяжелого дня. Геннадий Семенович взял себя в руки, подергивая плечами стряхивая, словно пыль, неудачное начало, поднялся и, широко улыбаясь, объявил:
- Мы решили послать нашего, - он сделал паузу, обвел взглядом зал и торжественно отчеканил: - Ваагна Карапетяна!
Нужно было видеть удивление аудитории.
- Это он-то лучший?
- Этот лоботряс?
- Что творится-то?!
- На кой ему сдался Сахалин? Цветами торговать - самое место!
- С ума посходили, что ли?!
“Нет, это я сошел с ума”, - подумал я, и обхватил руками свою горемычную голову.
39.
Самолет долго и напряженно гудел, вздрагивал и чертыхался. Он раздумывал, как ему поступить - то ли взлететь к радости утомленных от нетерпения пассажиров и сосредоточенных, по-деловому настроенных по той же причине летчиков, то ли попросить оккупировавший его люд освободить все три салона, благо трап еще не отъехал, откатиться подальше от глаз начальства и подремать. Под стать настроению железной птицы действовали и облачённые в голубую униформу “Аэрофлота” стюардессы. Они то вяло прохаживались вдоль рядов, растерянно посматривая на открытый грузовой люк, то срывались с мест и носились как угорелые, поражая воображение степенных отцов семейств и их покладистых жен своим задором, энергией и другими потенциальными возможностями. Но вот самолет перестал рычать, притих, вроде как определился, и… тронулся с места. Вздох облегчения пробежал по рядам. В салонах загорела надпись «Пристегните ремни». Следом послышалась реплика. «Опаньки, а я ремень-то дома оставил». Затем высветилось вежливое указание, изложенное в повелительной форме: «Не курить!»
В иллюминаторах замелькали вспомогательные огни взлетной полосы. И наконец-то последовало пожелание командира корабля пассажирам, приятно провести время, скорее похожее на стариковское недовольное ворчание, в адрес внука, который на свидание торопится.
Что касается моей персоны, то меня не интересовали размышления авиалайнера и поведение стюардесс, вот уже которые сутки я не мог вывести себя из состояния оцепенения. «Куда это я лечу и зачем? Что я там потерял?” - в сотый раз спрашивал я сам себя и не находил ответа. Иногда мне казалось, что все это происходит во сне и стоит только себя ущипнуть…
Признаюсь вам, уважаемые читатели, щипал я себя и не раз, но, увы, ни самолет не исчезал, ни пассажиры, и я не оказывался в своей теплой постели.
А воздушное судно, наращивая скорость, поднялось, если верить объявлению второго пилота, на десять километров, и я, взглянув в иллюминатор, увидел под нами плотно уложенные облака удивительно похожие на мою мягкую постель. И так защемило в груди, так тоскливо стало, что не передать словами, ни пальцами изобразить.
____
Город Южно-Сахалинск встретил меня без особого энтузиазма, и я тоже не очень-то возликовал, произошло взаимное неприятие друг друга. Серые обшарпанные двухэтажки, серая погода, серые лица. И серые мысли на этих лицах, как рентген-лучи пронизывали меня, и было от того и холодно, и серо на душе.
Личные вещи загрузил в камеру хранения там, на аэровокзале, и с легким портфелем шагаю по Коммунистической улице. Вот он и дом № 24. С правой стороны у двери мраморная доска с золотыми буквами «Сахалинский обком КПСС» Звучит-то как!
Захожу, а милиционер мне дорогу заграждает, но я иду на опережение:
- Мне нужно к Марии Петровне.
- Сегодня не приемный день,- устало отвечает сержант и показывает рукой на входную дверь.
- Я из Москвы, у нас есть договоренность, она ждет меня, - нагло вру я, - в надежде, что слово Москва магически подействует. И, действительно, к моему удовольствию, завертелся постовой. Ну, а я напрягся, так как нет уверенности в том, что Мария Петровна ещё помнит меня. Если и вспомнит, то что с того, примет ли?
– Понятно, - словно очнувшись, мычит сержант и раздумывает как поступить. Подходит к служебному телефону- автомату внутреннего пользования, набирает три цифры.
- Дусь, тут товарищ из Москвы к Марии Петровне.
Через минуту оборачивается ко мне, - Вы по какому вопросу?
– По личному.
И докладывает в трубку:
- По личному, говорит.
Снова ему Дуся что-то отвечает.
- Понял, не дурак, - обрывает сержант Дусю и снова оборачивается ко мне: - Как ваша фамилия? А впрочем, у вас имеются какие-то документы?
Я передаю свой потрёпанный паспорт и сержант почему-то начинает листать его сзади. Я не выдерживаю: - Можно я сам объясню?
Постовой буркнул Дусе:
- Дусь, пусть он сам тебе все объяснит, - и протягивает трубку мне.
– Я из Москвы, меня зовут Ваагн Карапетян, приехал по направлению, - без раскачки начал я, - мы с Марией Петровной встречались в Москве по этому поводу, в гостинице Москва. Пожалуйста, передайте ей.
- Как вас зовут? Повторите.
- Ваагн Карапетян.
- Ваагн?
-Да, да - Вэ, два а, гэ, эн.
- Ждите.
Я положил трубку. Сержант показал на самый дальний стул:
- Вон там посиди пока.
Но, не успел я подойти к стулу, как прозвенел звонок служебного телефона. Сержант, искоса поглядывая на меня, учтиво выслушал указание сверху:
- Вас ждут. Подымись на третий этаж, по лестнице, лифт не работает. Там, направо, пятая дверь.
Поднимаюсь, дверь полуоткрыта. Дуся, белобрысая, лет под тридцать пять-сорок женщина, встретила меня стоя и, улыбаясь, указала сторону двери. В ответ и я учтиво улыбнулся и двинулся в указанном направлении. Взялся за бронзовую ручку, а там еще одна, такая же. Первую на себя, вторую от себя, главное не запутаться в дверях, мелькает в голове. Но вот, захожу в кабинет. Секретарь обкома на удивление встретила меня доброжелательной улыбкой:
- А ну, проходи, герой.
Она заглядывает в шпаргалку и неуверенно произносит:
- Ваагн.
Затем уже легко продолжает:
- Смотри ты, выполнил обещание. А я, почему- то, сомневалась. Думаю, передумает ехать. Проходи, садись. Молодец!
Я прошел, сел на стул у рабочего стола. Пытаюсь улыбнуться, но улыбка, не получается, какая-то кислая выходит, напряжение не спадает. Мария Петровна сняла очки и облокотилась на правый подлокотник кресла:
- Куда мы теперь тебя направим?
Я пожал плечами, мол, вам решать.
– В городе не смогу, здесь все забито. А район? В любом районе могу трудоустроить. И с жильем помогу. Решай.
– Может, вы сами?
– Нет, вот карта, подойди. И выбирай.
Мария Петровна показала на карту острова, прикрепленную на стене за моей спиной. Я, терзаемый любопытством и смутным беспокойством, подошёл к карте, стал лихорадочно метаться по ней в надежде не упустить лучшее место, интуитивно угадать тот райский уголок, где мне предстоит провести три года.
И вдруг, в северной части острова заметил поселок Задорное. Сразу представил себе гитару, костры, ночные посиделки. По поселку безмятежная молодежь ходит, распевает задорные песни. И совсем рядом, впритык, райцентр Черногорское. Откуда мне было знать, что из 900 жителей посёлка, 600 - это условно освобожденные, то есть бывшие уголовники. Хотя, бывают ли уголовники бывшими?
– А в Черногорском есть газета?
– Ну, естественно. Кстати, хороший район. Сейчас мы посмотрим.
Мария Петровна раскрыла телефонный справочник, полистала, пододвинула к себе поближе один из телефонных аппаратов:
- Добрый день, Крючков. Что нового?.. Понятно. Вам хорошие кадры нужны?.. Бери выше, из самой столицы... Он журналист. На все полные три года...
– Так, значит, - Мария Петровна посмотрела на часы, - он последним рейсом к вам поедет. Организуй, чтобы встретили, пока в гостиницу определи, смотри, там люкс номер выберите, почище. (Ого! Люкс ! Я вспомнил люкс номер в гостинице Москва)
- И не тяни с жильем, парню три года жить.
– Похоже, я лучше тебя информирована. Соловьевы уезжают. Дом освобождается, если уже не свободен.
– И смотри у меня, - Мария Петровна, улыбаясь подмигнула мне, - не дай Бог, обидите, сама приеду, три шкуры спущу. С тебя лично.
- Ну ладно, ладно. Встречайте.
Мария Петровна положила трубку:
- Молодец ты, - обернулась она ко мне, - так и нужно в жизнь входить, а то, как крысы в московских кабинетах… фу, противно. Ну да ладно, - она, подбадривая, ласково посмотрела на меня, - у тебя времени немного, я так понимаю, твои вещи на аэровокзале, забирай их и дуй на автовокзал. Останется свободное время, посиди там, на месте, ничего. Так правильно, почитай что-нибудь.
Она встала с места, подошла к книжной полке и просматривая книги задумалась. Я также поднялся, наполненный чувством благодарности и радостного состояния.
- Вот возьми, - наконец она вытащила одну книгу и протянула её мне, “Сахалинская область: цифры и факты” и на обложке красуется сама Мария Петровна в ярко красной кофточке, показывая безупречные зубы удивительной белизны, а её окружают работницы текстильной фабрики, хмурые, с сомкнутыми губами, и напряжённым взглядом, в темно синих застиранных спецовках.
Взял я книгу и чувствую, как распирает меня от счастья и восторга, теперь я не сомневался, что всё складывается, как нельзя лучше, что я правильно поступил, выбрав остров Сахалин. Понимал, что нужно сказать пару тёплых слов, поблагодарить Марию Петровну, но не решался это сделать.
- Всё хорошо, молодой человек,- пришла на помощь сама Мария Петровна, давая понять, что аудиенция окончена,- если что - звони. Встала с места и протянула мне свою тёплую мягкую руку.
40. Встреча
Я, воодушевлённый и счастливый, помчался на аэровокзал, как на крыльях того же нашего родного “Аэрофлота”. Небольшая заминка произошла в камере хранения, наткнулся на записку «Ушла на обед, буду, когда вернусь». Но это обстоятельство не особо огорчило меня, так как времени ещё оставалось достаточно много. “Какая разница - успокаивал я сам себя, растянувшись на деревянной скамейке - где полтора часа околачиваться, здесь или там, на автобусной станции?”
Конечно, на станции спокойнее было бы, ведь пока за билетом в очереди отстоишь, можешь и автобус пропустить, ну да ладно, обойдётся как-то.
Вскоре появилась дежурная и, видя моё нетерпение, тут же выкатила принадлежащие мне чемоданы. Но и на автостанции понервничать пришлось, причём основательно. Прошёл в зал, вижу, над кассой огромный плакат висит, вроде как «Миру мир!» на Красной площади в Москве, только на нём ярко-красной краской написано другое… «На Черногорское мест нет». Здесь меня и затрясло, в Черногорске ведь к автобусу должны подойти меня встречать. И куда теперь, на ночь глядя?
Тут же, не мешкая, с трудом удерживая себя в рамках поведения приличного человека, отправился в автопарк, отыскал нужный автобус, поговорил с водителем. Тот на радостях, не пересчитывая неожиданную прибавку к зарплате, по- хозяйски положил мои чемоданы в отдельный отсек и определил мне место рядом с собой, еще и поделился своим сухим пайком, с любовью приготовленным его женой, как с гордостью признался он. Водитель так настойчиво и искренне предлагал, что я не мог отказаться.
Основательно подкрепившись, я незаметно уснул и проспал всю дорогу. Иногда лишь просыпался на короткое время и с любопытством наблюдал, как наш «пазик», медленно переваливаясь через сопки, кряхтя и надрываясь, упрямо ползёт к намеченной цели. Видимо упорства ему было не занимать, и он к девяти часам вечера дополз до поселка Черногорск.
На автостанции меня встретили двое мужчин средних лет и женщина предпенсионного возраста.
Первый - заместитель главного редактора Алексей Васильевич: крепко слаженный высокий молодой человек без правой руки. Как потом мне рассказали, погнался за длинным рублем, несколько лет ходил в лес на лесозаготовки и однажды вернулся инвалидом. Но для всех осталось загадкой, что же произошло, то ли несчастный случай, то ли выяснение отношений, благо спиртное они с собою немерено брали. Он протянул мне единственную руку и стал, запинаясь и волнуясь, отчитываться, мол, главный редактор бюллетенит и по этой причине не смог прибыть на станцию, и я с ним только в понедельник увижусь.
Второй товарищ, парторг совхоза, Николай Николаевич, он приветствовал меня более темпераментно: радостно улыбаясь он распростёр свои объятия и крепко прижал к себе.
Последней подошла третий член делегации, отобранной для встречи на автовокзале высококлассного специалиста из самой столицы, в котором позарез нуждалась Сахалинская область, директор восьмилетней школы. Такая степенная дама, Клавдия Михайловна. Она ласково улыбаясь, элегантно подала мне руку.
Вроде бы непонятно по какому принципу сформирована “спецгруппа”, но откуда мне было знать, что всё просчитано, что у каждого из них имелись определенные интересы, связанные с моей персоной. Но это выяснится потом и не сразу, а пока мы погрузили чемоданы на заднее сиденье новенького ярко желтого “Москвича 2140”, который принадлежал Николаю Николаевичу. Перед тем как тронуться, мои новые друзья устроили небольшое импровизированное совещание, с повесткой дня, куда меня поместить на ночь.
– Лучше в гостиницу к химикам, там ему будет удобно, - стал настаивать Алексей Васильевич.
– Вы согласитесь к химикам? - спросила Клавдия Михайловна, робко потеснив от меня мужчин.
– Можно, я согласен, - не почувствовав подвоха, согласился я.
И своим ответом приятно удивил директрису.
– А вы знаете, кто такие химики? - проявляя властную настойчивость, продолжила интересоваться она.
– Как кто такие? - я замялся, только теперь узрев скрытый смысл в этом вопросе. - Наверное, завод у вас, либо химическая лаборатория, студенты-химики ...
В ответ раздался дружный хохот.
- Химиками у нас условно освобожденных зовут, - глядя на мое растерянное лицо и, продолжая по-доброму смеяться, стал пояснять Николай Николаевич:
- Просто у них хорошие номера, да и люкс имеется.
Я вздрогнул. Опять люкс, что они заладили - люкс, да люкс.
Мне бы попроще, без излишеств, я ведь не на два дня приехал, - стал я возражать против особых условий, опасаясь как бы эта затея не влетела мне в копеечку.
– Да вы не беспокойтесь, всё оплачено, - угадал ход моих мыслей Алексей Васильевич.
– Тогда по коням! – воскликнул Николай Николаевич и протянул Алексею Васильевичу руку для прощания.
– Завтра увидимся, - сказала Клавдия Михайловна, - вечером ужинаем у меня. Это и вас касается.
Клавдия Михайловна посмотрела на двух представителей противоположного пола, пытаясь понять, дошло ли до них. Мужчины в ответ дружно закивали головами.
41. Номер “Люкс”
Когда выехали за территорию автовокзала, Николай Николаевич по- военному отчеканил:
- Заедем ко мне, поужинаем, чтобы не на пустой желудок ложиться.
Я безропотно согласился, так как, мой желудок своим ворчанием не давал мне покоя, и я не представлял, как смогу, не подкрепившись, заснуть. Подъехали к добротному с резными ставнями и перилами, приятно окрашенному, одноэтажному домику. Вошли без стука в дверь. Застали хозяйку за сервировкой стола, она услышав скрип в дверях, обернулась в нашу сторону и, не скрывая своего любопытства, окинула меня добрым ненавязчивым взглядом, показала рукой на накрытый всяческими яствами стол: на середине стола особо выделялась бутыль, литра на полтора, с белой мутной жидкостью.
- Вот, ждем дорогого гостя - сладко улыбаясь, сказала она, подошла и протянула руку:
- Настя, вторая половинка Николая.
Я вспомнил фразу Фаины Раневской “Вторая половинка есть у мозга, задницы и таблетки, а я изначально целая”, но не стал бахвалится перед островитянами своими обширными знаниями, лишь ухмыльнулся про себя и скромно представился:
– Ваагн.
– Знаем, знаем. Давайте раздевайтесь, и за стол, а то уже поздно и устали, и проголодались...
Я сел на предложенный стул, а Николай Николаевич уместился рядом на табуретке. Настя пристроилась напротив нас, взяла бутыль и умелым движением плеснула в граненые стаканы. Молча выпили.
Но что это было... горячая жидкость, как огненная лава поползла, выжигая мои внутренности. Перехватило дыхание и ударило в голову, фыркнув и встряхнув головой, я пришел в себя и принялся, забыв о правилах приличия и светских манерах, поглощать овощной салат. Настя прошла на кухню и вернулась со сковородкой жареной картошки, разложила её всю без остатка в три тарелки.
- Закусывайте, ешьте. Вот огурчики соленые, икра, правда, красная, черной не имеем. - Вновь обратила на себя внимание “вторая половинка”, - Маринованные грибочки, одним словом, чем богаты тем и рады.
Тем временем Николай Николаевич потянулся за бутылкой и тоже вполне профессионально плеснул, каждому до определенного уровня, чуть выше середины.
– Давайте за знакомство, дай Бог, чтобы вы прижились у нас. Здесь края хорошие, народ крепкий, правду-матку любит. Если приживётесь, не пожалеете.
– А надолго вы к нам? - спросила Настя, пододвигая ко мне тарелку с маринованными грибами.
– Чего ты ему грибы суёшь, икорку ближе поставь, - возмутился Николай Николаевич, - грибов под Москвой знаешь сколько.
– Знаю, знаю, да только они поражены радиацией, оттого и лезут, как ненормальные, а у нас чистейшая экология. Там ведь атомных станций вокруг Москвы понатыкано, не перечесть.
– Потому-то у нас до пенсии толком никто и не доживает, - отпарировал ей Николай Николаевич, переставил тарелки с соленьями и пододвинул ко мне поближе блюдце с красной икрой, но я решил демонстративно не замечать элитную закуску.
Затем наступила очередь разливать водку Насте. И так, чередуясь и пререкаясь друг с другом, и разлили гостеприимные супруги всю эту горячую муть до остатка.
Помню, как часы пробили час ночи, как Николай Николаевич отрешенно сидел за столом и пытался из салфетки кораблик сложить. Как Настя суетилась, вокруг меня, пытаясь отодрать от стула. Это последнее, что сохранилось в моей памяти. Проснулся рано утром в постели, раздетый, а одежда рядом на стуле аккуратно сложена.
Слышу голоса в соседней комнате. Настя говорит:
- Кажется, наш гость проснулся.
Заскрипели половицы, взвизгнула дверь, мышонком, попавшим в капкан,и вошёл Николай Николаевич:
- Здорово брат, ну и крепко же вы уснули. Как уложили вас, так и до утра вы ни разу и не проснулись, а меня всю ночь мотало. Сейчас заморим червячка и в гостиницу. Завтрак уже на столе.
Я наскоро оделся, прошел в столовую.
Настя мне:
- Вы уж извините, рукомойник и все остальное у нас на дворе. Вам придется от московских привычек отвыкать.
«Причем тут Москва» - подумал я и, сделав нарочито огорчённое выражение лица, развёл руками - этим самым вызвал невольный смех у хозяев.
Вспомнилась венгерская студентка Папп Каталин. Из Будапешта прислали к нам на стажировку группу студентов. Так вот они искренне негодовали. «Почему, - возмущались они, - у вас не продается туалетная бумага? Ведь у нас, в Венгрии, вся туалетная бумага советского производства». Понятно, не верили мы им. А они решили её с собой привозить. Читаем надписи на упаковке и глазам своим не верим. “ СССР, Ленинградская область, Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат”. Все как положено. Главное и знак качества на месте стоит.
А мы и знать-то не знали, да и в страшном фантастическом сне представить себе не могли, что есть специальная бумага для попы и, что эта бумага ещё с 1969 года производится в нашей стране на Сясьском целлюлозно - бумажном комбинате. Для производства туалетной бумаги были закуплены две огромные английские бумагоделательные машины и отправляется во все, так называемые, социалистические страны, а советский народ для этого дела продалжает использовать газетную бумагу, благо ее производили в достаточном количестве. Только одной газеты «Правда» на всех бы хватило.
- Вы откровенные националисты, - Однажды резко бросила мне в лицо Каталин.
- С чего это ты взяла? Интернациональное воспитание является одной из основ политики советского государства, - попробовал было я возразить.
– Вот вы пишете, посмотри на этот плакат.
Мы находились на Красной площади
«Да здравствует Великий Советский народ». Нам и в голову не придет написать: « Да здравствует Великий Венгерский народ».
Откуда ей было знать, что мы со стороны, может быть и смотрелись, как единый народ, названный “советским”, но в рамках границы своей страны - более десятка народов, раздираемые многочисленными противоречиями: в первую очередь религиозными, культурными, национальными особенностями; томились под тяжелым гнётом советской системы и никак не воспринимались единым целым.
Помню и другой случай, мы остановились у красочно оформленного плаката с надписью «ДРУЖБА НАВЕКИ!», на котором два небритых мужика целуются, первый наш мОлодец, а второй, то ли китаец, то ли... скорее всего вьетнамец. Каталин засмотрелась.
“Ну, - думаю, здесь-то не к чему придраться”.
Но Каталин, кисло улыбнувшись, полушепотом, чтобы случайные прохожие не услышали, читает надпись на плакате - “Дружба навеки” и полушутя добавляет:
- Но ни секунды дольше.
Я опять отвлёкся.
Не стал я о специальной бумаге для попы рассказывать Насте и Николаю. Они мне бы точно не поверили. Прослыл бы я тогда лжецом, начались бы пересуды и на смех бы подняли.
Представляешь, сказали бы, до чего додумался, этот самый Ваагн, говорит, есть специальная бумага для попы. Ха-ха-ха, го-го-го, гы-гы-гы! Несерьезный человек. Болтун.
42.
Умылся я, придал своей шевелюре надлежащий вид, захожу в комнату, а на столе та же бутыль. У меня помутилось в глазах, и я запротестовал:
- Я вас прошу, не будем, после вчерашнего мне еще с неделю отходить надо.
– У вас на Кавказе как принято? - пустился в дискуссию, не ожидавший такой реакции, Николай Николаевич. - Главное, чтобы налито было. Выпьет гость, добавь, а нет, так не заставляй. А то у нас приставят нож к горлу. Ну, нет, так нет. Настя, убирай.
Утренняя трапеза приняла, как тому и следовало быть, деловой характер. Сидели недолго. Поднявшись из-за стола, я принялся благодарить хозяйку за оказанное гостеприимство и извиняться за то, что, как свинья, нализался. Настя с пониманием кивала головой и улыбалась, а затем, чтобы прервать нескончаемый поток моих извинений, махнула рукой:
- Не волнуйтесь, у нас нередко пьянки так заканчиваются. Привыкните.
Уже в машине Николай Николаевич обратился ко мне:
- Ваагн, раз судьба нас свела, будем дружить. Вот моя рука. Переходим на «ты» и без отчеств, для тебя я Коля или Колян. Договорились?
Я крепко сжал протянутую руку и с готовностью посмотрел Коляну в глаза, мол, я знаю цену дружбе и Коля никогда не пожалеет об этом.
Колян вёл машину по поселку осторожно из-за бесконечных ям; огибая их и медленно въезжая в огромные лужи. Эти искусственные водоёмы в некоторых местах покрывали не только проезжую часть, но и заливали приусадебные участки, добираясь до ступенек изб расположенных вдоль дороги и по этой причине объехать их было невозможно.
Сквозь покрытое пылью переднее стекло я рассматривал поселок и, неизвестно чему улыбался, хотя у самого сердце бешено колотилось. Ещё с утра меня охватило непонятное беспокойство, некая тревога закралась в мою душу. Я понимал, что впервые за прожитые годы окунаюсь в самостоятельную, взрослую жизнь. Теперь не на кого опереться, не с кем поделится возникшей проблемой, спросить совета, поплакаться, наконец. Все решения должен принимать сам и своей головой отвечать за них. Я должен выработать в себе привычку полагаться только на себя.
Колян подрулил к трехэтажному зданию, с виду похожему на общежитие.
– Вот и приехали.
– Это не общага ли? - осторожно спросил я, - глядя на старое, обшарпанное здание.
– Второй и третий, да. А на первом этаже гостиница, - погруженный в свои мысли, не сразу ответил Колян.
Как только припарковались, он, не растягивая несложную процедуру “внедрения” нового поселенца в трёхэтажную бетонную почерневшую от времени коробку, со всей очевидностью лишенную элементарных признаков цивильных условий, нашел дежурную, взял ключи. И мы вдвоем потащили по узкому коридору мой скарб. Мой новый друг провернул ключ в замочной скважине и плечом надавил на дверь. Дверь со скрипом отворилась, видимо, не так часто предлагали этот номер-люкс гостям посёлка.
Мы вошли и оказались в крохотной комнате, пропитанной тошнотворной сыростью и отдающей какафонией спёртых запахов. У правой стены железная одноместная кровать, рядом - стол со стулом. На противоположной стене от кровати неряшливо прибиты несколько пластмассовых пожелтевших, имеющие когда-то белый цвет, вешалок.
Колян стал затаскивать чемоданы, а я растерянно остановился посреди комнаты:
- Колян, это и есть люкс?
– Да, - спокойно ответил Колян, - в обыкновенных номерах по три кровати и без стола, а у тебя еще и графин имеется.
Ужас охватил меня.
– И туалет общий?
– Да, в конце коридора, на одном конце женский, на другом мужской, надо уточнить, - не замечая моего волнения, пояснил Колян.
– А ванна?
– Забудь, - тут он позволил себе хитро ухмыльнуться, - у нас общая баня с парилкой. Но зато какая парилка! - воскликнул он,- Как заново рождаешься! - И, с нескрываемым торжеством пояснил,- вторник, четверг, суббота - мужские дни. Попаримся!
- Парилка - это хорошо, - запинаясь и меняясь в лице, пробормотал я в ответ.
- Хотя, непорядок, - вдруг задумался Колян, - два стула должны быть. Сейчас разберусь.
Он вышел искать дежурную. Через пару минут вернулся со стулом:
- Ну вот, теперь комплект. Ты располагайся, вечером кто-то из нас зайдет за тобой. Вечером мы у Клавдии Михайловны, ты помнишь? Кстати, её муж, Валерий Яковлевич, директор совхоза. Он на десять годов моложе её. Вот такой мужик! Колян поднял большой палец вверх, - познакомишься.
- Ну, держись, - ещё раз для порядка улыбнулся Колян и прикрыл за собой дверь, оставив меня посреди комнаты в позе застывшей мумии, из чилийского музея в селении Сан-Мигель-де-Азапа. Оставшись один, я продолжал стоять, не решаясь сделать лишнего движения. Еще долго доносился до меня затихающий звук неторопливых шагов Коляна. А когда воцарилась полная тишина, я осторожно присел на край кровати, пружины сердито заскрежетали и заскулили. Огляделся по сторонам, обратил внимание на плотную пыль на подоконнике, потускневшие стекла на окнах, на стенах повсюду следы от мух, раздавленных бывшими постояльцами.
А сколько разговоров-то? - “ люкс, люкс, люкс!” . Еще с Южно-Сахалинска началось - люкс, обязательно люкс, проследите, чтобы был люкс. С ума, что ли посходили?
43. Первые гости
В дверь постучали. И, не дожидаясь приглашения, в комнату вошла полная женщина в вечернем с блестками, наряде. По внешнему виду кореянка. Осмотрелась. Наградила меня недовольным взглядом:
- Ну, здравствуй постоялец. Впервые такое у меня, не сам ко мне, а представителя прислал. У вас, что в Москве, все такие?
– Простите, а вы кто?
- Как кто?! Я дирехтор гостиницы, Мальвина Эдуардовна Пак!
– Я и не знал, - замялся я, втайне надеясь, что мой проступок не отразится на моей карьере на острове и не погубит окончательно мою молодую жизнь, - я бы сам к вам явился, вот не сообразил.
– Вот-вот, и ключи, мог сам забрать. А я бы тебя и проинформировала как вести себя в гостинице, чтобы нареканий с моей стороны не было. Ну, мы люди не гордые. Вишь, сама пришла. Главное, что тебе нужно соблюдать - это чистоту и порядок. В грязную погоду ноги почистить, у порога для этого решетка есть, и потом уж по коридору шастать.
– Ноги или обувь?
– Ишь, какой грамотей, обувь, конечно, - вскинула брови директор Мальвина, - но ты ж меня понял. Шутки шутить и мы можем. Сейчас я с тобой по-серьезному разговор веду, а проказничать будешь, да в грязной обуви ходить - заставлю у порога разуваться и в носках по коридору идти. Ты не шути так.
– Я просто уточнить хотел.
– Ну, это другое дело. А теперь слухай дальше. После одиннадцати по коридору не греметь, люди спят, уважать надо. И вообще, буянить здесь ни к чему. Хочется поразмяться, пожалуйста, я не против, но в другом месте. Уяснил !?
- Поразмяться, это не совсем ко мне.
Мальвина Эдуардовна ухмыльнулась, - ну, это понятно, как только пару капель лишних примешь, сразу на подвиги потянет, не впервой такое слышать.
Она сделала паузу и стала изучающе меня рассматривать, пытаясь понять, дошло ли, или по новой объяснять:
– Ну, что постоялец, вопросы есть?
– Один вопрос, вернее просьба, стены бы помыть или обтереть, смотрите, сколько мух налеплено.
– Ишь ты ! - Удивилась Мальвина Эдуардовна, - помоем, ты завтра опять наклепаешь их. Что, теперь каждый день стены скоблить? Не я ведь этих мух плодила, какой с меня спрос? Обойдешься - у нас на три этажа всего одна уборщица, а у нее шестеро детей.
– Ну, раз шестеро, тогда понятно, - охотно согласился я, поняв что зря затеял этот разговор - я думал, может она не замужем вовсе. А раз шесть детей… нагрузка и так большая...
Я притворно заискивал, с намерением расположить начальницу к себе.
– Да, - Мальвина Эдуардовна махнула рукой, - дурень-то мой, нашёл на ком жениться. Сто раз говорила, отстань от неё, не пара она тебе. У тебе мать хто? Дирехтор гостиницы! А у нее хто? Не послушал, теперь локти кусает.
– Не огорчайтесь, это не самое страшное.
– Понятно, чего уж там. Ну, я пошла, а то разговорилась с тобой. Дел-то полно. Курей покормить надо.
Я прикрыл за Мальвиной Эдуардовной дверь. Чемоданы раскрывать не имело смысла, так как раскладывать некуда. Достал лишь куртку и теплый свитер, чтобы выйти перед сном подышать свежим воздухом.
Переоделся, но только решил покинуть свою скромную обитель, извините, люкс-номер, как снова стук в дверь. Открываю. За порогом - старик с тросточкой и небольшим свертком в руках.
– Добрый день, молодой человек.
В ответ я кивнул головой и предложил войти в комнату.
– Да я на минуту, на пару слов только, меня зовут Иван Васильевич, будем знакомы.
– Очень приятно, Ваагн.
– Я сторожем работаю, в школе. Когда мне сказали, что к нам новый учитель из Москвы приехал, обрадовался, думаю, теперь будет меня кем заменить.
– Как заменить?
– Да, я не в том смысле. Когда учителей не бывает, мне приходится за всех отдуваться. А я старый уже, и об чем с детьми разговаривать, не знаю.
– Простите меня, но я ничего не понял. Как это учителей не бывает? А потом я журналист, в газете вашей буду работать.
– Знаю, знаю. Мы всё про вас уже знаем. Для начала, возьмите вот этот стакан.
Он развернул сверток, выудил граненый стакан, наполненный по самый верх красной икрой, и протянул мне.
Я вспомнил вчерашнюю икру на столе у Насти и Коляна, к которой я так и не притронулся. А здесь целый стакан. Но делать нечего, пришлось взять. Поставил стакан на стол. Стал благодарить, но как-то всё наперекосяк получалось, не мог сообразить, как поступить, то ли отказаться от икры, то ли спросить сколько заплатить я должен. И рассчитаться, если денег хватит. Но дед продолжил говорить и отвлек меня от этих мыслей.
– У нас школа-то маленькая, в каждом классе по 5-6 учеников, только в седьмом десять, в основном привозные, из сел. А в поселке одни зеки. Вроде народу много, а детей нет. Когда в клубе концерт какой, так свободных мест не бывает. Много народу у нас живет. Но я не об этом.
Иногда учителя просят, особенно когда Клавдия Михайловна в отъезде, а она часто на материк выбирается к дочери своей, так вот, просят они - Васильевич, займи моих детей, всего двое пришло, что мне с ними делать? Потом другая попросит, третья. Бывает, все ученики в одном классе соберутся, и я с ними воркую, об жизни речь веду. А они мерзавцы, ушлые, надо мной посмеиваться начинают. Мне это неприятно. Отпустить их нельзя, за ними автобус должен прибыть, и учительниц понять можно - у каждой семья, хозяйство.
Чрез это и мужья меня уважают, в компании приглашают, так я у них самый почетный гость. Кукайем меня зовут, Кукай с японского переводится, как Великий Учитель. В шутку, конечно, так говорят. Ну, а если вы и у нас в школе будете какой-то предмет вести, не беспокойтесь, редактор возражать не станет… В конторе вчера вечером об этом судачили. На вас детей спокойно оставить можно, опять же, вы свободный человек, ни хозяйства, ни своих ребятишек нет. Пока, во всяком случае.
Представил я школу, в которой в учебные часы нет учителей, они по домам сидят, постирушками занимаются, а с детьми сторож возится, и вспомнил Клавдию Михайловну, ее подобострастное, даже заискивающее поведение на автостанции, и приглашение на вечер.
- Великий Учитель, - улыбаясь, чтобы не обидеть гостя, обратился я к Ивану Васильевичу, - но мне пока никто не предлагал работать в школе.
– Предложат, - махнул рукой Иван Васильевич, - и денег заплатят, у них этого добра навалом. Наш край богатый, леса сколько хошь, бери не хочу. Мы ведь с Японией напрямую работаем.
Ушел Иван Васильевич, кряхтя и тяжело опираясь на палку, а я так и не спросил, за икру-то сколько должен. Решил, не буду есть, ну его, при встрече верну, или нет, увижу, скажу, придите, заберите, я икру терпеть не могу, спасибо. А прокиснет, так это его проблема.
Вышел я из… рука не поднимается написать слово «гостиница», но придется. И так вышел я из гостиницы и по улице иду, мужчины насторожено посматривают на меня, женщины - удивленно- восторженно. Некоторые улыбаются и кивают головой, отвечаю тем же. Присматриваюсь, впереди за деревьями магазин, справа – клуб, за клубом очевидно, школа. По дороге мне навстречу идет молодая женщина, замедлила шаг, смотрит в мою сторону и пытается обратить на себя внимание. Я окинул её с головы до ног взглядом опытного сердцееда, ничего себе, подумал про себя. Главное, заметно отличается в лучшую сторону от женщин, которые до сих пор мне встретились. Те либо в телогрейках, либо в сапогах и если общаются друг с другом то мат, перемат стоит. А она в легком платьице, на каблучках и прочее.
Я к ней, решительно двинулся наперерез, и сам восхитился своей необдуманной дерзкой смелости. Подошёл и выпалил единственное, что пришло в голову:
- Не подскажите, как к магазину пройти?
Она от неожиданности вспыхнула, покраснела, видимо тоже не ожидала такой прыти от меня, и ответила:
- Пойдёмте, покажу.
С готовностью развернулась и мы прошли несколько метров по улице затем свернули в переулок.
– Вон, видите крыша с трубой. Так вам туда надо.
Мы замедлили шаг.
– А вы надолго к нам?
- На всю жизнь
- Ой, - она заулыбалась, - все вы так говорите.
– Нет, серьезно. Меня зовут Ваагн, такое вот тяжело произносимое армянское имя, но можно Ваган.
– А меня Людмила, но можно Люда.
Мы рассмеялись. Я взял её за руку, она покорно протянула и вторую.
- Ты сегодня вечером будешь у Клавдии Михайловны, если хочешь, я потом подойду, погуляем.
– Да, хочу, - расцвёл я от неожиданного приглашения, и все слилось вокруг в прекрасную картину простого человеческого счастья!
44. Юбилей
Сегодня с утра десятый день, как я приехал на Сахалин. Юбилей, небольшой юбилей и все же... Люда с утра напомнила. Она иногда у меня на ночь остается.
Не успел я глаза открыть, как ощутил на щеке поцелуй - влажную печать признания - своеобразное свидетельство восторга и хорошего настроения. Затем последовал словесный фейерверк пожеланий: прожить остаток жизни в радости, в роскоши, в изобилии, в любви и при крепком здоровье да и самое главное, в здравом уме, который вот-вот появиться должен.
Подумать только, всего лишь десять дней, а я уже в доску свой и в газете, и в школе. В газете нет никаких отделов, работаем сообща. Как при первобытно-общинном строе все гурьбой на мамонта ходили, так и у нас - на всех одна забота: на примере сахалинских работяг прославлять социалистическое строительство, советский образ жизни. Да, и чувство глубокого удовлетворения не забывать, которое так выгодно отличает нашу страну от стран - бывших союзников по Второй мировой войне и их ближайших сателлитов.
А в школе… В тот вечер, если помните, мы были приглашены к директрисе домой. Уже к концу застолья, когда вечерняя тишина стала полновластной хозяйкой, потому как Алексей, зарывшись лицом в тарелку с остатками холодца, чуть слышно сопел за столом, Колян вышел покурить на крылечко, там и заснул и тихонько и сладостно посвистывал, а супруг, Валерий Яковлевич, и вовсе исчез в своей спальне, Клавдия Михайловна меня разбудила и поволокла в соседнюю комнату.
- Ты за них не волнуйся, - успокоила она меня , - сейчас проснутся и пару бутылок еще пропустят. А я к тебе с предложением; и в школе поработать, нам молодые кадры нужны. Наша школа одна из лучших в районе, постоянно на доске почета, грамоты имеем, - стала перечислять она, - опять же переходящий Красный вымпел уже сколько лет у меня за спиной в кабинете. Ещё прошлый завроно товарищ Осипов вручил, так и остался у нас, вроде как на сохранении, четвертый год или пятый уже и не припомню.
Гостеприимная хозяйка, непринужденно рассмеялась:
- И коллектив подобрался хороший, преподаватели достаточно грамотные, имеют высокую квалификацию, опыт у каждой солидный, но преподавателей не хватает, - стала сокрушаться моя будущая начальница, - нам позарез хотя бы ещё один нужен, и желательно, молодой, неженатый, вот такой как ты. А потом же зарплата – 75 рублей?!
Я растерялся, в голове не карусель, а аттракцион целый, визг, гвалт, музыка и все вертится, двух слов связать не могу, разве что мычать, так не поймет же. Только головой кивать получается.
- Я вам признаюсь… учитель из меня никакой, - наконец выдавил я из себя:
- А потом не люблю я это дело. Могу о вас в газете написать, если хотите.
– Это тоже нужно, - охотно закивала головой Клавдия Михайловна и вдруг рванулась ко мне и крепко схватила за грудки.
Здесь до меня дошло, что я сваливаюсь со стула, а хозяйка дома, добросердечная женщина, в последнюю минуту сумела удержать своего гостя, в вертикальном положении.
И все же не такой уж я и пьяный был в тот вечер, я хорошо помню, как Клавдия Михайловна поставила меня на ноги, подвела к кровати и рукой так легонько тронула, я и брякнулся, в аккурат вдоль кровати, и головой о мягкую подушку.
Разговор мы продолжили утром, за чаем, в присутствии всей компании.
Сошлись на том, что буду преподавать географию в пятом классе. Все мое преподавание сводится к изложению прочитанных минут за сорок до начала урока пары страниц из учебника. Можно, это не возбраняется, и своим опытом поделиться, ведь я был редким живым экспонатом, который не только Москву видел, но и в Черном море плескался, я уже и не говорю о Кавказских горах и прочей мелочи; закавказских всех трёх столиц с их фонтанами, к примеру. И никаких ко мне претензий. Да, и 75 рэ. в месяц. Вот и верчусь теперь, на двух работах.
И Люда со мной, задушевный человек. Три года тому назад её мужа, Степана, осудили за поножовщину с летальным исходом на восемь лет, и сослали на самый край страны, под Москву куда-то.
Было так, две бригады в дикой ярости сцепились за выгодный участок леса, в итоге два трупа, и хотя размахивали топорами все тридцать членов двух бригад, крайними определили двух, по числу трупов. Одним из осужденных и оказался её муж.
Через год, который Люда провела в неведении и в душевных муках, от Степана пришло первое и последнее письмо. “Меня больше не жди, - написал он, - я теперь европеец. Мне лучше здесь, в тюрьме, чем у вас на свободе, и в ваши гнилые края никогда не вернусь, моим, папане и мамане, передавай привет, пусть не сильно гневаются на меня, видно уж, такова моя доля.
Люда, вопреки ожиданиям друзей, знакомых, родственников, не оставила уже немолодых свекра со свекровью, помогает им, чем может. На прошлой неделе и меня с ними познакомила, вечером, после основательной инструкции как там себя вести, отправились мы к ним в гости. Старики вертелись вокруг меня, всё приноравливались. Сошлись на том, что теперь я им заместо сына буду.
45. Виктор Беленко
В один из воскресных вечеров засиделись мы с Людой в гостях у её одноклассницы, к слову, словоохотливой и гостеприимной хозяйки, заведующей районной библиотекой Нины Мазаловой. Только в первом часу ночи поднялись из-за стола.
Вышли, а на дворе такая красота, воздух свежий, чистый, так бы и дышал открытым ртом, вдыхая в себя вечернюю прохладу. Месяц занял место на небосклоне правее водонапорной башни, высветился из горячих алых туч и, отражаясь в окнах церкви, покрыл улицу светлой молочной полосой. Школьный двор, песчаную дорожку, до самой калитки располосовал длинными тенями близлежащих берез. Одно загляденье.
Хотелось погулять, во всяком случае, не спешить возвращаться домой, но Люда пожелала на ночь к родителям уйти, нездоровилось отцу.
Я её проводил и на обратном пути решил побродить по пустынным улицам, достал из портфеля портативный радиоприемник “Россия-303”, поймал радиостанцию «Свободная Европа». Передавали последние новости. Среди прочей, уже известной информации, потому как они нередко повторяли прежние материалы, я услышал сообщение японского радио о летчике Викторе Беленко. Тот совершил побег из СССР: всего пару часов тому назад он вылетел с аэродрома Соколовка (это недалеко от нас, в Приморском крае) для выполнения полётного упражнения и совершил посадку в аэропорту японского острова Хоккайдо.
Уже в постели, перед сном, получил новую дозу инфо: летчик Виктор Беленко попросил у США политическое убежище.
Утром в редакции я полушепотом рассказал об этом Алексею Васильевичу. Он усмехнулся и так же чуть слышно ответил:
- Посмотрим, как дальше станут развиваться события, наши вероятно, потребуют, чтобы самолет и летчика вернули, но скорее всего, вернут только самолет.
Не прошло и получаса, вызывает к себе редактор:
- Ваагн Самсонович, вы меня удивляете, как так можно!? - он сделал паузу, желая понять, какова будет реакция на эту преамбулу, и продолжил:
- Занимаетесь дезинформацией. Вот у меня официальное сообщение ТАСС, - он взял в руки листок с грифом «Для обсуждения в первичных партийных организациях», - здесь черным по белому написано «Виктор Беленко, советский лётчик, совершил «вынужденную» посадку на аэродроме Хакодате». А вы что распространяете в редакции?!
Я побледнел, стал заикаться, стало понятно, Алексей передал наш разговор. Мелькнула мысль, что свидетелей-то не было, значит нужно отказываться. Не было никакого разговора, это поклёп, решил я про себя и замотал головой:
- Не знаю, о чем вы, впервые слышу... не в курсе, - пожимаю плечами, - какой лётчик?
Дверь в кабинет открылась, и входит ответственный секретарь Леонид Симаков и сходу:
- Нехорошо получается, Ваагн Самсонович. Не знаю, не слышал, я ни причем, - фальшиво изумился он, передразнивая мои отпирания. Его губы сложились ехидной ухмылкой, сквозь полуоткрытый рот выглядывали тёмные прокуренные зубы, создавая особое напряжение на обезображенном лице. Он занервничал и обернулся к Кириллову:
- Чего это вы с ним возитесь, Алексея Васильевича позовите.
Кириллов почесал затылок и нехотя крикнул секретарше Катерине:
- Катенька, Алёшу позови.
Я стою в полной растерянности. Не могу сообразить, что происходит. Чего добивается Симаков? Тупо уставился в стену, гляжу на портрет горячо любимого вождя большевиков дедушки Ленина и детей с картины Николая Жукова «На ёлке» и жду. Зашел Алексей Васильевич.
Однако тот услышав вопрос, бровями изобразил удивление, не понимая, зачем его вызвали, вкралось сомнение, может и не в курсе Алексей, и не он инициатор этой разборки.
- Алексей Васильевич, расскажите-ка нам, - наигранно усмехаясь, теперь уже в лоб обратился к нему Леонид, - что это утром вам на ухо Карапетян нашёптывал.
- Не понял, - напрягся Алексей.
- Ну, что он вам рассказывал, какой новостью делился?
Алексей пожал плечами, - а какого хера, я должен перед тобой отчитываться?
- Я знаю, что он тебе нашептывал, - теряя самообладание взвизгнул Леонид - ты не должен забывать, что редакция газеты, это идеологический орган.
- Слушай, пошел ты на х… со своей агитацией, - пресёк Алексей его высоко нравственную речь , пропитанную болью за нашу многострадальную власть рабочих и крестьян.
- Ты полностью офигел, - вскипел Леонид, - я это так не оставлю!
Он подскочил к Алексею и схватил его за грудки.
Алексей в свою очередь, единственной мускулистой рукой, подмял Леонида под себя, подтащил к стенке и, развернув, ткнул лицом в бетон. Из носа Леонида хлынула кровь.
- Хватит, - заорал оцепеневший Кириллов и вскочил на ноги, - что за бардак? Не потерплю! Что за балаган устроили, что вы здесь себе позволяете?!
На шум оперативно отреагировала Катерина, нисколько не суетясь, тотчас же нарисовалась в дверях с мокрым полотенцем. Осмотрелась и по-свойски, не особо церемонясь, усадила Леонида на стул, и бухнула мокрое полотенце ему на распухшее лицо.
- Закрой входную дверь, пожалуйста, - обратился ко мне раздосадованный редактор. Я с готовностью отправился закрывать дверь, по пути облегченно вздыхая и успокаиваясь. В голове вертелось: “Раз такая катавасия пошла, не до меня им теперь. Между собой бы разобраться”
Вернулся в кабинет редактора. Участники жаркого захватывающего “поединка” расселись по углам. Леонид опрокинул голову назад, рукой придерживает полотенце, но продолжает держать марку - нога на ногу и развалился на стуле. Алексей уселся сразу на двух стульях и угрюмо смотрит себе под ноги. Кириллов вроде как меня ждал. Поглядывая на дверь, он стоя возился с ремнем, пытался сгладить растопыренную сорочку на отвислом животе.
Продолжая прилаживать ремень, он исподлобья посмотрел на меня, кивком головы указал на стул и заговорил.
- Очень нехорошо получилось. Давайте договоримся: этот инцидент останется между нами, ни одна живая душа не должна знать. Мы ведь одна семья, что это на вас нашло? Я потрясен!
Алексей посмотрел на редактора:
- А то, Виталий Геннадьевич, что Лёня любит сказки сочинять и людей грязью поливать, - не поднимая головы, выпалил он. Леонид, как будто ничего не слышал, отрешенно смотрел в окно.
- Вот у меня последняя информация по Беленко, - Кириллов поднял со стола лист бумаги и стал читать:- «Уточняющий материал ТАСС. Посадка Беленко в Хакодате сделана при невыясненных обстоятельствах, публикации в западной прессе о том, что перелёт Беленко был преднамеренным, а не вынужденным, являются кампанией пропаганды», предположения на тему, что полёт Беленко, по всей вероятности, был побегом, являются лживыми. Официальный представитель МИД СССР Л. В. Крылов прямо заявил: «Всё это ложь, от начала и до конца».
- Странно, - Главный редактор Кириллов отложил бумажку, - в первом сообщении конкретно указывалось, что он произвел вынужденную посадку, а теперь пишут о невыясненных обстоятельствах. Не могут определиться, как подать информацию? Ёрзают… значит не всё здесь гладко. Ну да ладно… Сегодня вечером - ко мне, посидим, успокоимся. Это первое. И второе, это ко всем относится,- не глядя на меня, назидательным тоном продолжил Кириллов, - советую, настоятельно советую, поменьше слушать вражьи голоса. Там ведь спецы сидят, вы даже представить себе не можете, как их болтовня отражается на вашем творчестве, нет-нет, да какая-нибудь гадость в ваших очерках и проскочит.
Вечером, к концу рабочего дня, я, прощаясь, крепко пожал Алексею руку:
- Спасибо, Алексей.
- Бывай, - улыбнулся он.
46. Две бригады
В понедельник в редакции на летучке опять схватились Алексей Васильевич с Леонидом Симаковым, и опять по моей вине. Два дня я провел в тайге, любовался работой двух бригад: лесорубов и лесовозов. Меня интересовал вопрос, почему так много спиленных и неубранных деревьев гниют в тайге? То там, то здесь можно встретить целые баррикады, брошенные лесорубами более года назад. Выясняется: у каждой бригады свой план, свой интерес.
Лесорубы, снабжённые новыми японскими бензопилами «Makita» , как говорится, размахались, валят лес в самых труднодоступных местах, откуда его вывезти затруднительно, тем более в дождливые дни, которых предостаточно в этом регионе. Перевыполняют план, получают премиальные, всё как положено.
А у бригады лесовозов сплошные проблемы. Имеющиеся в автопарке два белорусских вездехода МАЗ разобраны, уже три месяца ждут комплектующие детали от завода-производителя. Японский Komatsu NTRO с шестицилиндровым двигателем да еще и с радиоприемником в кабине, который по бартеру получили, и двух лет не продержался. Наши умники из-за несоблюдения правил эксплуатации его угробили, не кондиционное моторное масло залили, а он закапризничал и через пару дней заглох. Стоит он теперь в гараже яркой окраской глаз радует. Как-то обратила внимание администрация на то, что водители свободное время стали в нём коротать. Главное, не пьют. Выходят из кабины, разминаются и совершенно трезвые. Выяснилось, мерзавцы “Голос Америки” слушают, коматсовский приемник лучше нашего VEF-202 эту вражескую радиостанцию ловит. Администрации пришлось реквизировать радиоприемник и на склад сдать, до поры до времени, да и от греха подальше.
На ходу грузовые КАМАЗы, но только не приспособлены они к бездорожью, одна морока, с ними.
Вот и получается, лес рубят, а вывозить нечем, только лес переводят.
В своем небольшом по этому поводу очерке я и предложил объединить эти две бригады, чтобы лесорубы свои бензопилы доставали после того, как нарубленное да напиленное вывезут. Алексей Васильевич поддержал меня, а ответственный секретарь озлобился, мол, не имеем мы право указывать. Мол, есть об этом кому думать и в райкоме и выше… После часа перебранки осторожный редактор решил отложить статью до следующего номера и попросил убрать мое предложение о реорганизации двух бригад до поры до времени. Обещал поднять этот вопрос в райкоме партии, а получив “добро” посвятить этой теме отдельную статью. Алексей Васильевич, как услышал это, в сердцах хлопнул дверью и исчез на весь день. Переделал я статью, получилось “ни то ни сё”, самому противно, кинул на стол ответственного секретаря и вышел из редакции.
Только перешёл я на другую сторону улицы, вижу ковыляет мне навстречу , опираясь на палку, сторож Иван Васильевич. Обрадовался, думаю, вот и пора разобраться с ним, сколько еще тянуть. Его то я и раньше встречал, но всё не складывалось, всё что-то мешало о моем долге ему напомнить, то торопился, то отвлекали.
- Добрый день, Иван Васильевич, как хорошо, что я вас встретил. Иван Васильевич, удивленный моим появлением, остановился:
- Добрый день, Ваагн Самсонович, добрый день. Недавно вашу статью читал о соцсоревновании, очень смело пишете, я рад за вас.
- Ну, это такое, - отмахнулся я, - Иван Васильевич, я все забываю спросить, сколько я вам должен.
- В каком смысле?
- За икру.
- Какую?
- Вы мне в граненом стакане принесли. Забыли? Кстати, и стакан ваш у меня остался.
- О! Хорошо, что вы мне напомнили, - воскликнул Иван Васильевич, - я вам литровую банку приготовил, в погребе стоит, сегодня занесу.
- Мне бы за прежнюю рассчитаться.
- Да бросьте вы, Ваагн Самсонович! О чем это вы? Я ведь от чистого сердца.
Я замялся, не знаю, что и ответить:
- Спасибо вам, как-то неловко…
Иван Васильевич по-отечески похлопал меня по руке. И добавил полушепотом:
- На прошлой неделе мы с полтонны наловили, удачная ночь выдалась. Целую бочку кеты накоптили, а мать три двухлитровые банки икры закатала. Я к вам вечером зайду и стакан заберу.
Я улыбнулся: - Буду ждать, приходите. Я вас чаем напою. - Да ну, я покрепче напиток принесу, собственного изготовления. Попробуете, как у меня получается. И закуску прихвачу. Грибочков нажарю, так что не беспокойтесь.
47.
На дворе октябрь месяц, по утрам становится морозно. Осень все больше заявляет свои права на наше настроение. Мои любимые березы оделись в новые нарядные платья, настолько дивные, что иногда невольно останавливался, чтобы полюбоваться. И остальные деревья, стараясь не ударить в грязь лицом, прихорашивались передо мной, изощрялись, каждое на свой лад.
В редакции взаимоотношения наладились. Леонид, вспоминая мокрое полотенце, угодливо улыбается и предлагает свои услуги: то стержень для ручки, то карандаш заточенный предложит, то стопку бумаги подбросит.
Теперь уже ни у кого не вызывала сомнения информация о военном лётчике Викторе Беленко, о том, что он на сверхзвуковом истребителе, с секретной на борту аппаратурой, вполне осознанно покинул территорию Советского Союза, а затем попросил политическое убежище в США. Но эта тема в редакции больше не обсуждалась, хотя ТАСС и продолжал посылать сообщение за сообщением одно противоречивее другой. Тассовцы так увлеклись, что однажды обыкновенной почтой прислали сообщение под грифом «Совершенно секретно» - информацию о том, что Беленко таким необычным образом внедрен в ВВС США для получения секретных материалов об аэрокосмической технике. И в сопроводительном письме следовало указание: об этом ни гу-гу ни жёнам и ни соседям, совершенно секретно, мол.
Я же ушел с головой в работу, с утра заезжал в один из колхозов, там мотался по фермам да конюшням, по колено в грязи и в вони. Доставал колхозников одними и теми же вопросами: планы, выполнение, настроение и так далее. Как-то добрался до силосной ямы, там трое колхозников отдыхают, понятно, ждут машину с силосом. Я к ним с диктофоном.
Двое ухмыляются:
Первый, - Чо, об нас в газете пропишешь?
Второй, - С портретом?
А третий поодаль лежит, расстегнув старый поношенный бушлат на волосатой пухлой груди и, хитро прищуриваясь, за нашей беседой наблюдает.
- Можно и с портретом, - улыбаюсь я.
Первый, - А чо, у вас нету портрета Брежнева ?
- Есть, не волнуйтесь.
Второй, - Вот ему и вопросы задавай.
Первый, - А нам в душу нечего лезть.
Бесцеремонно отвернулись от меня и на животы полегли.
А я не унимаюсь:
- И все же, я знаю, ваша бригада в передовиках ходит. А вы лично, какие задачи перед собой ставите?
Первый не выдержал, сердито привстал и показывает рукой на третьего:
- Вон, видишь того? Его дирехтор сюды поставил, чтоб не сбёгли мы. ПонЯл? А ты планы, планы. Еб.. ть не хотели мы твои планы. Так что не мешай.
Второй:
- Иди, иди отседа. Не в настроении я сегодня, утром без аппетита позавтракал.
Вот иногда в такой обстановке и собирал информацию.
Но, как правило, ко мне с уважением относились, живо и увлеченно отвечали на вопросы. Бывало из одного колхоза материала на пять очерков привозил. Кириллов охотно публиковал мои статьи, но, чаще под другими, вымышленными именами, с этим он не особо церемонился, хотя иногда, в одном номере и по два очерка под моим именем проскакивало.
48.
Однажды утром просыпаюсь от безумно яркого света заполнившего оконное пространство, словно бы напротив прожектора выставили. Я в окно, а там белизна до горизонта, слепит глаза и тянет отвернуться. Пушистым белым снегом запорошило дома, дороги, поля, еще и золотые лучи солнца рассыпались по всему небосклону. Сюда бы художника Айвазовского, он полюбовавшись этой дивной красотой, своё море со штормами и штилями напрочь бы позабыл.
Но красота красотой, а я с ужасом вспомнил, что картофель на западном склоне еще не убран, под снегом остался. Это более пяти гектаров территории, если даже получить по тридцать пять тонн с одного гектара, то страна недосчитается в этом году порядка ста пятидесяти тонн картофеля. Это точно. Директору капец, подумал я. А я успел с ним сдружиться, классный мужик. Сколько вечеров вместе провели и в бане в одной компании паримся. Наскоро оделся и помчался в управление совхоза, директора там нет, и никто ответить не может, где его найти. Мечусь по посёлку, дома его нет, на базе нет, на тракторной станции нет. Неужто уже вызвали в Обком партии и «погоны снимают»? Хотя в подобную оперативность от партийцев не очень-то и верилось, но чем чёрт не шутит.
Навстречу мне идет Колян, он-то должен знать, как-никак секретарь парткома этого самого совхоза.
- Колян, где Валерий Яковлевич?
- Не в курсе. А зачем он тебе?
- Тут такое творится… - показываю рукой на снег, - а картофель-то не убран. Не накажут его?
Он ухмыльнулся, - да угомонись ты, - с наигранным спокойствием ответил он. Затем сдерживая улыбку добавил,- каждый год такая картина.
Но глядя на моё встревоженное лицо, легонько потрепал меня за плечо, мол, бывай, не горюй, всё обойдётся, повернулся и пошёл своей дорогой.
Я долго смотрел ему вслед, видел как мелко трясутся его плечи. Понимал, что он не может сдержаться и идёт посмеиваясь. Теперь, при случае станет рассказывать друзьям, знакомым о том, с каким не от мира сего человеком ему угораздило общаться. Только до меня так и не дошло, что смешного он нашёл в моей тревоге, и до сих пор не понимаю.
А ближе к весне на том поле появился трактор и, надрываясь, и дергаясь перепахал его, смешав с грязью сто пятьдесят тонн мёрзлой картошки.
49.
Вот и декабрь, не заставил себя долго ждать, впереди замаячили школьные каникулы, новогодние праздники. Кругом только и разговоров о том, кто куда планирует поехать, где провести праздничные дни.
Нужно отметить, что дни, отмеченные красным цветом в календаре, - как манна небесная для лесорубов, составляющих большую долю рабочих поселка. В праздники можно расслабиться, отдохнуть от рева бензопил, мускулы расслабить, наконец. Пашут целый год, как проклятые, до 700 деревянных (так окрестили рубль советские труженики) в месяц набегает. Лежат до поры до времени на сберкнижке денежки, честно заработанные, пOтом пропитанные. А потому, в красные дни календаря отбрасывают мужики топоры, извлекают на свет божий из деревянных, обшитых железом сундуков, пропитанные нафталином пиджаки, достают остроносые лакированные чувяки, пару сорочек, просят поносить у соседа галстук и, не теряя времени, перебираются на материк. Как правило, берут с собой две-три тысячи и неделю-другую гуляют “по-черному”. Возвращаются без копейки, иногда и без чемодана, с невостребованным галстуком соседа. И снова в лес на целый год.
Решил и я, уподобившись лесорубам, дней на десять в Москву податься. По телефону связался с однокурсницей Татьяной Рыжковой:
- Приезжай, - обрадовалась она, - мы, когда встречаемся или созваниваемся, в первую очередь о тебе расспрашиваем, новостями делимся. До сих пор девочки в шоке. Выясняется, ты сам добивался. И зачем тебе это нужно было?
К концу дня, когда беготня поутихла, зашел я к редактору договориться о поездке:
- Ну чего у тебя там? - опережает меня редактор.
- Виталий Геннадьевич, можно я на каникулы на неделю в Москву поеду?
Лицо редактора дрогнуло, нахмурилось и тотчас же засияло доброй, приветливой улыбкой. К внезапному, изменению мимики на его лице я уже привык, так как у него, каждая озвученная реплика являлась завершением недолгого внутреннего размышления. Встав с места, он голосом более высоким и поспешным, чем прежде начал говорить:
- Мы-то всего три дня отдыхаем… А потом, ты ведь и в школе занят?
- В школе каникулы до двенадцатого января.
- Вот-вот, каникулы,- прикрывая рукою бесшумный зевок, стал пояснять редактор, - Это учеников касается, а преподаватели, насколько мне помнится, на месте должны быть.
- Я ведь там по совместительству, не основная работа.
- Нет, нет, - стал отмахиваться Виталий Геннадьевич,- поговори сначала с Клавдией Михайловной, с начала с ней, а мы свои люди, разберемся.
На следующий день, в школе, подошел к Клавдии Михайловне:
- Клавдия Михайловна, вы не станете возражать, если я на неделю в Москву уеду.
Её лицо застыло в непритворном изумлении, и тотчас же трансформировалось в форму брюзжащей противной старухи, которую невестка прокисшим борщом угостила. Глаза потухли и, пытаясь уловить нить услышанного, растерянно сморгнули.
- А ну, ко мне зайдем.
Вошли в кабинет, она не к журнальному столику, за которым, как правило, ведется легкая беседа о том - о сём, а за рабочий стол уселась и мне предлагает не стоять. Нехотя сажусь.
- Тебе ведь надо в первую очередь с Виталием Геннадьевичем договориться.
- Как!? Так он к вам послал, – удивился я, уже открыто, но дружелюбно улыбаясь:
- Говорил я с ним. Он не против, сказал только вас поставить в известность, - несколько скорректировал я ответ редактора.
- Тут надо подумать. Вы ведь знаете, что школьные каникулы потому и называются школьными, что только школьников касаются, лично я все дни без исключения на месте буду.
- Ну, на недельку-то можно, Людмила Алексеевна еще первого декабря уехала, я за нее историю в седьмом классе веду.
- У нее особые обстоятельства сложились. Зарплату-то тебе выдали?
- Да, но я не об этом.
- Понимаю. Ладно, я с Виталием Геннадьевичем поговорю, и решим, но только ты пока не покупай билет.
- А потом не достану, вы ведь знаете какая в предновогодние дни лихорадка.
- Не волнуйся, дай-ка все согласовать, а билет я на себя беру. Без билета не останешься, это я тебе твердо обещаю, - со свойственной власть имущим непререкаемостью заверила Клавдия Михайловна.
Вышел из школы в полном недоумении. Что это они, как сговорились, и главное, было бы из-за чего так напрягаться, мог бы и не сообщать вообще. Кому какое дело. Редактор так тот, как в запой уходит, так дней десять мы его не видим, затем появляется опухший, перекошенный, недовольный и вроде все мы ему что-то должны. И директриса по Европе, как по своей квартире шастает, только и слышишь, то из Вены приехала, то в Париж укатила. Да и остальные в редакции, либо уезжают картошку собирать, либо сено косить, а на самом деле, где отдыхают, кто знает, и спокойно с недельку отсутствуют, и никто не спросит, где столько времени околачивался? Значит так, пару дней подожду, если меня “благополучно” забудут, то дней на пять смотаюсь в Москву. Решено.
50.
Уже на подходе к дому вспомнил о том, что в портфеле лежит книга, из серии “Жизнь замечательных людей” об Александре Дюма, ещё с вечера запихнул, чтобы в библиотеку занести. Пришлось дать задний ход, изменить маршрут, а по пути ещё и небольшой крюк сделал, купил на вечер пару бутылок пива.
Нужно отметить, что библиотека занимала в умах всего взрослого населения посёлка центральное место, понятно, за исключением питейных заведений. Но не потому, что книга являлась другом и товарищем каждого сознательного человека в социалистическом обществе в целом и в нашем поселке в особенности, вовсе не поэтому.
В своё время библиотеке передали во временное пользование частный особняк сбежавшего после окончания военных действий во Второй мировой войне на Дальнем Востоке корейского предпринимателя владельца местного рыбно-промыслового хозяйства Изуми Накамура так и забыли. И закрепилось это роскошное строение за самым скромным учреждением района - храмом книги местного масштаба.
По сути этот особняк являл собой единственную достопримечательность в округе, в котором имелась возможность в непривычном для советского глаза огромном фойе, заставленным еще с довоенных времен заботливым корейцем изысканной мебелью накрепко замурованной в бетонное основание, развалиться на мягких кожаных креслах и безмятежно забросив ногу на ногу, скоротать время в кругу приятелей.
Но совсем и не это являлось причиной особого отношения к фойе библиотеки коренного и некоренного населения; как правило в самый разгар захватывающей дух беседы один из инициаторов встречи незаметно вытаскивал из под полы бутылку сорокаградусной, и протянутые под столом бумажные стаканчики с бульканьем наполнялись, как называли индейцы в довоенных американских фильмах, огненной водой.
Вот это то и предопределяло характер беседы, делало её тёплой и содержательной. Потому-то по вечерам или в любое другое свободное время и тянулись в библиотеку, не забывая по пути заглянуть в вино водочный, для свободного времяпровождения местные жители и гости, если таковые оказывались в этом забытом Богом и людьми поселке.
И сегодняшний вечер не стал исключением в фойе за самым дальним столиком собралась небольшая группа офицеров. И судя по выражениям лиц беседа проходила в сердечной обстановке и пребывала в самом разгаре. Я поприветствовал офицеров легким кивком головы, и подчёркивая дополнительное уважение лихо козырнул двумя пальцами. Улыбнулся заведующей Нине Мазаловой, которая между делом поливала цветы на подоконниках из большой медной кружки обвитой зубастыми японскими драконами. По холостяцкой привычке, я, блеснув красноречием, самыми изысканными словами обрисовал её неповторимую красоту и неотразимое обаяние. Как мне представлялось, несмотря на тесную дружбу с моей Людой, она, как бы помягче выразиться, проявляла ко мне нездоровый интерес.
И отправился к книжным полкам. Перебирая книги в библиотечной тишине до меня донесся негромкий разговор офицеров.
- Обменяли все-таки…
- Да, как ни странно…
- Корвалан-то известная личность, а он …
- Э-э-э-э, не говори, Луиса мы сами до не6ес раздули, а Володю там, - я обратил внимание, как капитан Серёгин кивнул на потолок, - ценили, ценят…
- Слышал по «голосу» пару раз…
- Судьба…- задумчиво ответил капитан Якушев, - кто бы мог представить…
Неожиданно офицеры перестали шушукаться, и глядя в мою сторону притихли. Воцарившуюся тишину нарушил бодрый насмешливый голос хозяйки заведения:
- Да свой он, свой, в доску! Вы чего? Совсем?!
Из-за полок я не смог разглядеть её лица, а потому остался в неведении в адрес кого прозвучала эта фраза. Но в сию же минуту в офицерском углу послышалось определенное оживление и меня окликнули:
- Ваагн Самсонович, можно вас на минуту.
Вроде бы всё встало на свои места, посмотрел я на них, а они загадочно и дружелюбно смотрят и руками машут, мол, айда к нам. Подошел, сел на свободный стул.
- Не слышали новость? - обратился ко мне старлей Казанцев и под столом забулькала огненная вода.
- Смотря, что вы имеете ввиду, то что Валера Ли (местный пьяница) выкупил весь грузинский чай, чтобы чифирь изготовить, и разгневанные хозяйки готовят ему харакири, уже ножи точат, это я знаю, - улыбаясь отпарировал я.
- Ну-у-у, мелко плаваем!
- Отстаёте от жизни!
- Это вы с нами должны новостями делиться или мы с вами?!
Разом заговорили добрые мОлодцы, владельцы кирзовых сапог со специфическим запахом нестираных портянок. А лейтенант Хитров наклонился ко мне и приглушенным голосом сообщил, - обменяли диссидента Владимира Буковского на Луиса Корвалана.
Я не на шутку всполошился.
- Да не может быть! То есть наши признали, что в СССР имеются политзаключенные!!!
- Серьёзно.
“Маяк” постоянно, вот уже два дня об этом гудит, - схитрил Казанцев.
Я понял, что речь идёт о радиостанции “Голос Америки”.
- У меня,- я от огорчения прикусил нижнюю губу, - батареек нет, завезти обещают...
А старлей Карпов, неожиданно гикнул, что-то вспомнив, и со словами: " А ну погодите", - поспешил к креслу, заваленному доверху офицерскими шинелями. Кресло находилось в дальнем углу под портретом всеми любимой бабушки Надежды Константиновны Крупской. Я не оговорился, ведь если её пятидесяти двухлетнего супруга мы величаем - дедушкой, то соответственно, женщину в семьдесят лет и подавно нужно бабушкой называть. Не старой девой ведь? (Хотя кто его знает?)
Я опять отвлекся.
Так вот старлей выдернул из кучи бушлат на меховой подкладке, пошарил по карманам, достал листок бумаги и повернулся к Нине:
- Ниночка, тащи гитару.
- Опять?! - сморщилась Нина Мазалова и закатила глаза, как капризная девочка-подросток.
Оказавшись в орбите внимания дюжины мужиков, импозантная дама - владелица храма книги стряхнула с себя терзающие её тяжёлые мысли, о природе женского одиночества, и вернулась, в хаотично заставленный мебелью и книгами, просторный зал.
Она нехотя встала и неторопливо, с достоинством неся свой бюст, поднялась за гитарой на веранду. Поднимаясь она, нежно оглаживала ладонью литые бронзовые перила, останавливалась на каждой ступеньке и слегка задевала взглядом нашу сторону. Вероятно, её всё ещё терзали сомнения, в полной ли мере оценивают “зрители” это торжественное и элегантное перемещение по верх уходящей лестнице, хотя и слепому было видно, как “зрители”, позабыв рамки приличия, подобострастно, во все глаза, рассматривают интересную во всех смыслах особу.
Вскоре Ниночка как, её называл лейтенант Карпов, подчеркивая некую близость, вернулась с гитарой, не церемонясь, выдернула у инициатора экспромтного показательного выступления листок, удобно расположилась на диване, приладила лист, подложив под него пару книг, и, всматриваясь в текст, принялась настраивать струны. Виртуозно извлекла перебором избитую, но красивую мелодию и громко объявила:
Свободу в Чили и в СССР.
Посвящается Луису Корвалану и Владимиру Буковскому.
Капитан Серёгин, услышав более чем смелое заявление, вздрогнул и испуганно посмотрел на нас. А Нина Мазалова, заметив как всполошился Серёгин, перебрала еще пару аккордов и слегка потупив взгляд недовольно пробурчала:
- Так песня называется. Это заголовок.
И ещё раз ударив по струнам запела .
“Жил-был в стране капитализма
Как говорят, один из них.
И жил в стране социализма
Как говорят, другой из них.
Среди борцов их отличили
Соратники различных вер,
Встречая Корвалана в Чили
Буковского в СССР.
В Чили, в Чили
И в СССР.
Организатор демонстраций –
Митинговал один из них.
Организатор демонстраций –
Митинговал другой из них.
Им обвинения всучили
Поборники тюремных мер.
И Корвалан томился в Чили
Буковский узник в СССР.
В Чили, в Чил
И в СССР.
Вот объявляет голодовку
Несломленный один из них.
И объявляет голодовку
Отчаянный другой из них.
Ветра петиции вручили
Чиновникам из высших сфер»
- Свободу Корвалану в Чили!
Буковскому в СССР.
В Чили, в Чили
И в СССР.
О, дух бойцовский ! Ты не вымер!
Так вырастай, звучи, ломись.
Колокола зовут: - Владимир !
И из гитар летит:- Луис !
Их, наконец, освободили
Стал стимулятором пример.
Чтобы вышли на свободу в Чили.
И волю дать в СССР.
В Чили, в Чили
И в СССР”.
Лейтенант Коровин, после первых строчек, когда понял о чем идет речь, отошел к книжной полке, выхватил первую попавшую под руку книгу, раскрыл её и углубился в чтение. Майор Серёгин и вовсе вышел из библиотеки, было слышно, как он во дворе распекает своего водителя.
Нина допела песню, и ожидая заслуженных оваций, посмотрела на занятого чтением лейтенанта Коровина, затем оглянулась на дверь, за которой исчез осторожный майор Серёгин, и показательно кисло усмехнувшись, отложила гитару. Подняла со стола пачку сигарет «Шипка», достала одну, примяла её двумя пальцами. Выудила из верхнего наружного кармана плотно облегающей ярко голубой элегантной блузки крохотную импортную, японского производства зажигалку. Ловко высекла огонь, прикурила и раскинувшись на диване, жадно затянулась.
Вернулся майор Серёгин, не глядя на отважную или, скорее всего, поступившую безрассудно, исполнительницу песни, так как неизвестно кто из этой группы офицеров на следующий день помчится в особый отдел с важным донесением, подошёл к Карпову, устало улыбнулся:
- Это твоё?
- Да нет, кто-то из “химиков” в кабинете оставил. Случайно среди бумаг обнаружил.
- Ну и выбрось, чего хранишь? Что, проблем мало?
- Ты прав, хотя я так завидую Володе. Он мужик! А мы так себе… - вздохнул старлей.
Он подошел к заведующей библиотекой, ласково и недвусмысленно улыбаясь, одной рукой погладил её по щеке, второй ловким движением подхватил со стола вырванный из школьной тетради лист в клеточку с аккордами для гитары и текстом крамольной песни и, отойдя в сторону, разорвал его на мелкие кусочки, бросил в картонную коробку с рисунком остроносой импортной мужской обуви приспособленную для мелкого мусора.
________
На следующее утро я вернулся в библиотеку. На спинке дивана всё также стояла коробка из под обуви, теперь уже доверху наполненная, всяким мусором: скомканной бумагой, окурками, пеплом и, превозмогая чувство брезгливости, выскреб оттуда обрывки листа с текстом песни.
51
А вечером встретила меня у сельмага, или скорее всего подкараулила Настя, жена Коляна и окончательно спутала мои карты:
Она тепло и долго трясла меня за руку, и не в силах скрыть свою озабоченность и волнение, чем, надо признаться, уже озадачила меня, вкрадчиво произнесла:
- Ваагн Самсонович, я с вами поговорить хочу...
Мы свернули с оживленной шумной улицы и пошли по безлюдному тихому бульвару, в сторону парка.
- Я вас прошу, - обратилась она ко мне, - о нашем разговоре никому ни слова, это между нами должно остаться. Если узнает об этом хотя бы одна душа, Люда, например, то моего Колю уволят с работы. Я иду на этот шаг исключительно ради уважения, которое к вам испытываю.
Я разволновался и поспешил заверить её, что буду нем как рыба, горя от нетерпения поскорее узнать, что за новая интрига разворачивается, в которой я, быть может, не последнюю роль играю.
- Обещаю, вы можете мне полностью доверять.
- Я не знаю, что у вас там, в Москве стряслось, но вы должны три года безвылазно у нас, на острове, пробыть. Есть такое указание и за вами установлен надлежащий контроль, поверьте мне. И, простите меня за это слово, сослали вас по какой-то, вероятно вам известной причине. Это мне не нужно знать, я и не хочу, чтобы вы рассказывали.
- Как сослали? Я сам добивался! – вскричал я от удивления, словно меня кувалдой по голове оглушили. - Так я через знакомых вышел на Марию Петровну!
Настя улыбнулась:
- Мне это сложно понять, зачем вам это нужно было. Вот такая ситуация. Вы ведь толком и не заметили, как эти полгода пролетели. И три года также пролетят. Наберитесь терпения и живите спокойно.
- А что, я и в партию вступить не могу?
- Не знаю, - пожала плечами Настя.
- А если я куплю билет и в самолет сяду, то что произойдет?
- Не сядете ведь, в том-то и дело. Здесь всё отработано, не вы первый и, увы, не последний. Бортпроводница найдет ошибку в вашем билете и предложит срочно пройти к кассе. Пока там с билетом провозятся, самолет улетит. Только деньги потеряете. Купите новый билет на следующий день картина повторится, и так хоть сто раз. Только деньги потеряете.
«Зачем она так откровенна со мной?» - подумал я с легким сомнением в чистосердечности её желания мне помочь.
А Настя, угадав мои мысли, подняла голову и испытующе и внимательно посмотрела мне в глаза, в свою очередь, тоже терзаясь сомнениями, видимо не решаясь что-то очень важное сообщить, добавить. Но затем, отогнав от себя ненужные мысли, будучи не уверенной, что её правильно поймут, задумалась, ушла в себя. Мы молча прошли ещё несколько метров. Затем, приглашая меня следовать за собой, она свернула на левую тропинку и, неловко поворачиваясь, пододвинулась вплотную ко мне. Необычная в этом поглотившем нас вечернем сумраке тишина сблизила нас. Её удивительной белизны лицо, распущенные волосы цвета спелого каштана, теплое дыхание очаровывали своей детской искренностью и первозданной чистотой, не оставляли никаких сомнений в бесхитростности её поступка.
- А Колю в особый отдел переводят, - чуть слышно выдохнула она, после небольшой паузы, хлопая пушистыми ресницами, из-под которых смотрели на меня глаза, полные грусти и отчаяния. И непонятно было, то ли решила тему сменить, то ли, действительно, своими личными переживаниями поделиться:
- Не по душе мне всё это. В совхозе он мог бы и на место директора претендовать, образование позволяет, он Тимирязевскую академию окончил. А теперь полная неизвестность.
- Он не мог отказаться?
- Его особо никто и не спрашивал, мол, считаем целесообразным и все. Какие разговоры? Предвижу беду, но ничего поделать не могу.
Настя закрыла глаза, и облокотилась о моё плечо, и тут до меня дошло, что это не игра, что ей действительно больно и тяжело от безысходности, невозможности самим, по своему разумению, строить свою жизнь.
- Зря вы, наверное… это ведь повышение, он может и оттуда уйти на пост директора, - с трудом выдавил я из себя, всё ещё находясь под тягостным впечатлением откровенного рассказа о моей незавидной судьбе.
Настя покачала головой, - оттуда только ногами вперед выносят. Ну, так вы помните мою просьбу, никому о нашем разговоре. И не волнуйтесь, не страшно это. Я верю, у вас все будет хорошо.
52.
После разговора с Настей я возвращался домой, поёживаясь от холода, напуганный и подавленный. (Еще не успел рассказать читателю о том, что первого декабря я переехал в трехкомнатную избу в ведомственном доме.)
В избе холодрыга. Не раздеваясь, прошёл на кухню, наскоро запихал поленья в печь, брызнул полкружки керосина и поднес спичку. Пламя вырвалось из печи и обдало жаром пальцы. Я отпрянул и привычным движением ноги в сердцах захлопнул дверцу. Сполоснул руки, вернулся в прихожую, и только затем сбросил пальто. Разулся, а не найдя под вешалкой домашних тапочек, сообразил, что Люда не приходила.
Надо признаться, избаловала она меня. Утром, если не оставалась на ночь, забегала на несколько минут, прибирала квартиру, наскоро готовила что-нибудь поесть и мчалась к себе, на метеостанцию - месяц тому назад ее назначили исполняющей обязанности начальника.
Тапочки мои нашлись, когда я уже утвердился в мысли, что вечером вместе с мусором их выкинул. А они, оказывается, под кроватью, под газетой “Советский Сахалин”, так скромненько разместились, лишь кончик правой тапки выглядывал. Разобрался с тапочками, натянул поверх теплой футболки джемпер крупной вязки. Включил самый модный по тем временам магнитофон «Электроника-322», вставил кассету с записью песен французского шансонье Энрико Масиаса.
Печь, что бывает редко, хорошо растопилась, труба мирно завывала дуэтом вместе с Масиасом. Языки пламени в унисон задорным песням шансонье весело плясали на поленьях. Но опять заминка - в ведре воды только на донышке, и та с соринками. Пришлось снова одеваться и обуваться, на все пуговицы застёгиваться, на дворе ведь мороз под тридцать градусов, а до колодца метров двести.
Наконец на табуретке, которая мне журнальным столиком служила, появился стакан горячего малинового чая.
А в голове полный хаос. «Что за нелепица, - думал я, прокручивая в ладонях подстаканник из мельхиора, соображая с какой стороны пригубить, чтобы не обжечься.
С кем-то меня спутали местные придурки. Ну кому я нужен?! У Насти с головой что ли? Ведь на остров я сам стремился… Ну и Валентина, удружила мне… Говорят, женщины мстительный народ… Но не я, а она меня отшила. Может ей что и наговорили или засекла меня с кем-то в коридоре? Не могу понять… Что же произошло? В чем моя вина? И как теперь жить прикажете? В подвешенном состоянии два с половиной года лямку тянуть? Ничего себе!
Стемнело, а долгожданного стука в дверь, все нет и нет. Не появляется на пороге моя Люда. Настроения никакого, на душе кошки скребут. Что-то происходит. Непонятно. Неспроста всё это.
А тут ещё и лампочка замигала, а через пару минут окончательно погасла. Заскулил и заглох магнитофон. Вот еще одна напасть, усмехнулся я. Комната погрузилась в полумрак, стало хорошо видно за окном подсвеченное лунным светом пространство. Я подошел к окну, в надежде увидеть фигуру Люды, идущую торопливой походкой.
Открыл форточку, посвежевший юго-западный ветер гнал по небу тяжелые тучи, покачивал верхушки берез в сквере напротив. Пронёсся по дороге раздувшийся парусом, газетный лист, тяжело проехала грузовая машина. Отчетливо слышу тонкое подвывание ветра, и стук березовых веток по оконной раме. Погода не для гулянок. Но нужно иди, Люду искать, где засиделась, у кого застряла?
Вернулся к “столику”, допил чай, оделся потеплее, вытащил из чулана унты с двойным собачьим мехом и отправился на поиски. Сначала (это по пути) зашёл к её свекрови со свекром. А они не в курсе, только всполошились, закудахтали, как куры.
- А куды же она могла подеваться? У Марфы был? (Мать Люды)
У ней спроси. Ох и хитрая она, эта Марфа.
Свекор Федор Игнатьевич поднял указательный палец вверх.
- С тройным дном она! Найди её, Ваганушка. Сегодня. Слышишь? И к нам зайди, успокой. А как же мы без неё, без нашей родненькой? Степану еще пять лет сидеть А потом, приедет ли? Кто его знает, что он там надумал. Видать, молодуху нашел и голову потерял!
- Ну что вы, – поспешно возразил я, - какую молодуху? - и стал успокаивать, не скрывая своего негативного отношения к их сыну:
- За каменным забором, трехметровым, да с колючей проволокой он. Нету никакой молодухи, вернётся, не волнуйтесь.
Федор Игнатьевич махнул рукой, - нынче за деньги все можно. А он всегда при деньгах ходил. Сорил ими. Вот и досорИлся.
Еще больше встревоженный, я отправился к родителям Люды.
Они только руками развели. Как утром ушла, говорят, домой более и не приходила. Услышав это, я и вовсе голову потерял. Стою в полной растерянности, переминаясь с ноги на ногу, не знаю что предпринять.. Не случилось ли чего? Только и остаётся, что в милицию идти, заявлять о пропаже человека. Тётя Марфа только как-то виновато в мою сторону посматривает, с русской печью возится, горшок на огонь никак не может приладить.
Делать нечего, вышел я за ограду, а куда податься - не знаю, что делать - ума не приложу. Слышу скрип за спиной. Обернулся, а это тётя Марфа, поеживаясь от холода, ко мне идет, а у самой слёзы на глазах. Подошла, взяла меня за локти и огорошила до потрясения, стала мои руки неистово целовать:
- Прости её сынок, - сквозь слезы с трудом выдавила из себя она и разрыдалась, - уехала моя доченька… К этому дурню своему… Не держи зла на нее… - стала причитать тётя Марфа и обливаться слезами. - Письмо от него получила, мол приезжай. Будешь рядом жить, тогда меня как семейного по праздникам отпускать станут. Она всё и позабыла: и тебя, и нас, ведь начальницей стала, Василий Алексеевич, наш сосед, у нее в подчинении ходил - всё бросила. На съедение волкам стариков оставила. Я ей в ноги упала, а она мне: «Мама, нужна я ему, плохо ему без меня. Ты понимаешь?» Вся такая взбудораженная, колючая, ну и проводила я ее с одним чемоданчиком утренним автобусом.
В конец потрясенный сообщением, я обнял старушку, - все образуется, не волнуйтесь, - говорю, а у самого голос дрожит, не могу с собою совладать, - я уверен, придёт в себя и вернётся. Её тоже понять можно, он ведь законный муж.
Тётя Марфа притихла, недоверчиво посмотрела на меня, кончиками платка присушила глаза.
- Все будет хорошо, - продолжаю я не своим голосом успокаивать её, - вот увидите, а сейчас идите, простынете.
Как мог искренне улыбнулся ей и еще раз тепло обнял старушку.
Тётя Марфа, устыдившись моих объятий, легонько отстранила меня и, не прощаясь, всхлипывая по пути, засеменила в избу.
53.
На следующий день вечером - стук в дверь. На пороге отец Людмилы. Я обрадовался было, может, вести хорошие, и Люда сейчас дома свой чемоданчик распаковывает, но, посмотрев в глаза Гавриила Петровича, полные смятения и грусти, понял, что это не так.
Гавриил Петрович сбросил ботинки, и не дожидаясь приглашения, прошел в столовую, достал из авоськи бутылку “Московской”, поставил на стол и виновато посмотрел на меня.
- Выпить захотелось, подумал, с тобой веселее будет. Не возражаешь?
- Конечно нет, давно пора, мы с вами вдвоем никогда и не сидели. Я мигом стол накрою. А вы садитесь, я сейчас.
Отправился на кухню за закуской, стал хлеб нарезать.
- Не суетись, - услышал я голос Гавриила Петровича из столовой: - Только хлебушка, а остальное я собой принес.
Я ломтики хлеба положил в хлебницу, захожу в комнату, а на столе стеклянные банки с соленьями, видны грибы - и лисички, и белые, рыбные котлеты в отдельной посуде, опять же икра красная, а Гавриил Петрович все продолжает выгружать.
Не растягивая, сели за стол. Опрокинули по первой. Водка холодная, прямо со двора, не успела нагреться, холодной струёй хлынула в меня, пришлось застыть в ожидании, когда она до печени доберется.
Гавриил Петрович чуть призадумался, и резким взмахом направил водку в горло. Осторожно вернул стакан на место, облокотился обеими руками о столешницу и уставился на отрывной календарь на противоположной стене:
- Шестнадцатое… стало быть, вчера пятнадцатое было, - сказал он и энергично затряс головой, словно желая избавиться от тяжелого бремени внезапно обрушившегося на его лысую, с остатками седых волос над ушами, голову. Не притрагиваясь к закуске, разлил по новой, небрежно позвенел горлышком о граненые стаканы.
Второй стакан наоборот, заставил меня содрогнуться, “Московская особая” потекла особо, как огненный змий по разодранной ране, обжигая и урча, вроде огнемётом полоснули. Гавриил Петрович снова потянулся к бутылке… Умело распорядившись с очередной дозой, он, наконец, взял ломтик хлеба и отложив в сторону корочку, стал мякушку жевать. Задумался. Губы задрожали и на глазах появились слёзы.
- Да, Ваганчик, - только и успел он сказать, и, подперев голову руками, негромко и протяжно заскулил.
Я замялся, без понятия, как поступить. Где найти те слова, которые в состоянии успокоить моего гостя?.. Не зная что предпринять, лишь растерянно смотрел, как слезы обильной струёй текут по его старческим щекам, и Гавриил Петрович продолжает жевать хлеб и скулить, не обращая внимания на сидевшего рядом невостребованного зятя.
Что и говорить настроение было хуже некуда, я с трудом сдерживал свои эмоции. И все же… И все же…
Так тоскливо стало, так горько на душе. За что такая невезуха … Настя такое понарассказывала. Без вины виноватый. Еще и Люда … А мы уже планы строили. Имена детям выбирали. Действительно, говорят “Пришла беда - отворяй ворота”. И я не выдержал…
Вот так и сидели мы вдвоем с Гавриилом Петровичем за столом с нетронутой едой. Он бесшумно голосил, время от времени вытирая нос и небрежно смахивая слезы, и я расклеился и в унисон ему подвывал, да слезы по лицу размазывал.
Потом Гавриил Петрович потянулся за бутылкой. Разлил, молча выпили, затем моя очередь наступила разливать…
Уже в постели вспомнились слова Гавриил Петровича “захотелось выпить, подумал с тобой веселее будет”. Вот получается и повеселились.
Утром проснулся от запаха жареной рыбы. Гавриил Петрович на кухне орудует.
За завтраком пытались не вспоминать вчерашний день, Гавриил Петрович казался веселым, мурлыкал под нос какую-то песенку.
Я расставил вчерашние граненые стаканы, но теперь уже с чаем.
Мой несостоявшийся тесть, размешивая сахар, погрузился в состояние глубокой задумчивости. Хлебнув пару глотков, он отложил ложку и обернулся ко мне.
- Я хочу спросить тебя… Это мне нужно знать, чтобы понять, что произошло… Если не хочешь можешь не отвечать. Тем более что Люда уехала, это теперь вроде и не актуально.
- Я охотно отвечу, спрашивайте.
- Люда жаловалась мне, говорила, что когда она у тебя на ночь оставалась, слышала, как ты во сне какую-то Елену звал, с ней разговаривал.
- Лену!? Нет у меня никакой Елены, это точно, - крякнул я от удивления.
- Люда говорила мне, жаловалась, мол, не нужна я Ваагну. Погуляет, время проведет и к своей Лене уедет.
- Но нет у меня никакой Лены. Я вам честное слово даю, - я стал бить себе в грудь, - хотя…
На первом курсе, это давняя история, седьмой год уже ... если не ошибаюсь. Влюбился я, первокурсник, в девушку с третьего курса или четвертого, уже и не помню, вот её звали Лена Куманёва, имя запомнилось. Хотите услышать?
- Отчего же, расскажи.
- Я тот случай теперь только с улыбкой вспоминаю. Очень часто, со временем, личная боль, моральная травма, проходит, затем либо забывается либо превращается в смешную, веселую историю.
Влюбился я в неё по уши, но она меня всерьез не воспринимала, разве что мальчиком на побегушках... За пивом сбегать или ещё чего, тогда за мной посылали.
Уже перед самыми каникулами, мы стояли в коридоре, я умудрился её поцеловать, и она не отстранила меня. Кажется, это был первый и последний поцелуй. Я вернулся в Армению, к родителям, тут же с порога, не раздеваясь, объявил голосом, не терпящим возражения, что женюсь, что я люблю её и прочее, уже за столом показал фотографию.
На моё удивление, отец не стал возражать.
Он позвонил своему знакомому коллеге в Саранск, на ее родину. Тот на радостях, что может услужить отцу, обещал молодую пару трудоустроить и с квартирой помочь, и мы продолжим учиться на заочном отделении. Я написал ей письмо, но не стал разрисовывать нашу будущую радужную, по моей версии, жизнь, вроде как интуиция сработала. Решил приберечь для следующего письма. Но ответа не дождался. Я второе отправил и терпеливо ждал, затем третье, пятое, десятое. За лето писем двадцать-двадцать пять отправил, и ни на одно письмо она не ответила.
В первых числах сентября к началу занятий вернулся в Москву. Её подружка по комнате сообщила, что Лена пока еще находится на родине, у родителей. Я, не выдержав гнетущего состояния неизвестности, в котором всё лето пребывал, поспешил на почтамт и позвонил ей. Был уверен, что она не сознается в том, что получала письма. Понятно, я бы не поверил ей, но Лена спокойно, без тени смущения заявила, что да, получала. И нехотя добавила, что дел было невпроворот и по хозяйству маме приходилось помогать, да и подружки свободное время отнимали… Не особо церемонясь велела передать своей однокурснице Валентине, что отправила ей письмо, пусть проследит на вахте и заберет его. Я вернулся в общежитие, письмо лежало среди прочей корреспонденции на столе у входа. Распечатал и в глазах потемнело: хвастается, мол, все лето получала от меня письма, которые всем селом читали, иногда под дружный хохот перечитывали. А так, не скучала, каждый вечер танцы-прижиманцы и все такое.
Вы можете представить мои переживания? С полгода я сам не свой ходил, всякие дурные мысли в голову лезли.
Письмо, конечно, я передал адресату, нисколько не заботясь о том, что оно распечатано, и больше ни ногой в их комнату. С тех пор прошло, повторяю, более семи лет. Много воды утекло за это время и бутылок откупорено, а другие Лены на память не приходят. Ума не приложу, к чему её имя спустя семь лет всплыло, если я с ней толком и семи минут не общался.
- Ладно, теперь уж что горевать, - по доброму усмехаясь ответил Гавриил Петрович, - Причиной вашей разлуки являются не десятки писем Лене, а одно письмо Степана, не горюй, время лечит. А мне пора на работу.
Гавриил Петрович тяжело встал из-за стола. В прихожей он долго, вздыхая и кряхтя, обувался. Подумалось, что хочет найти слова для прощания, потому и медлит и я сказал ему:
- Гавриил Петрович, лишь бы ей было хорошо, все остальное не важно. А мы здесь разберёмся…
Но Гавриил Петрович резко перебил меня,- Сердце моё неспокойно, вот оно что, - с досадой выпалил он, - а сердце родителя не обманешь, не к добру всё это…
Он обречённо замахал головой и, вкладывая все силы, громко постучал ботинками об пол, стараясь стряхнуть с себя накопившуюся в груди тревогу и, не глядя на меня, шагнул за порог и прикрыл за собой дверь.
Убирая со стола остатки завтрака, я вспомнил Лену или по мордовски Еленицу, крепкую девушку с крупными жгучими глазами. “Какую недобрую службу оказала она мне спустя семь лет разлуки, - мысленно вознегодовал я, - Какой разлуки? И семи минут толком не общались. Всего один поцелуй, а как он мне аукнулся.
54. Метель
Прошел год, унылый и безрадостный. Дни мелькали с невероятной скоростью. Школа, редакция, редакция и снова школа - вот и весь круг моих занятий и интересов. Иногда приглашали в гости знакомые, сослуживцы, как правило, соглашался. Пить старался меньше, потому что чувствовал, могу спиться, но от застолий не отказывался.
Однажды пригласили на именины в Воскресеновку, в соседний посёлок. Чтобы не опоздать на последний рейсовый автобус, я пошел к ближайшей остановке, в надежде там его перехватить, либо на какой-нибудь попутке добраться до посёлка.
Вечерело. Поднимался ветер. Вокруг меня, серыми очертаниями расположились, словно вырезанные из картона, низкие хаты, покрытые почерневшим снегом. А далее простиралось необъятное поле, пересечённое холмами и оврагами.
Рассматривая унылый ландшафт я, встревоженный отсутствием людей на остановке, пританцовывал на месте и , то и дело поглядывал на пустынную дорогу. За спиной послышался скрип снега. Я обернулся. То были двое мужчин; они широко шагая, приближались ко мне. Один из них, подойдя поближе, словно прочитав на моем лице озабоченность, желая меня обнадёжить, сказал:
- Сейчас появится… последний.
- Гаврила должен быть, - со знанием дела подтвердил второй.
Еще через несколько минут из ближайшего переулка нарисовалась не по-зимнему легко одетая девушка и, порхая, направилась к остановке.
- Расписание знает, - хмыкнул первый
- То-то же, - эхом отозвался второй.
Настроение поднялось.
После получасового ожидания первый мужчина, поеживаясь от холода, обратился ко второму:
- Может, вернёмся
- Чего это ты?
- Ветер поднимается, метель скоро начнётся.
- Да тут пятьдесят кэмэ всего, доедем, не дрейфь.
- Ух, Гаврила, мать твою, - зло выругался первый, - всегда опаздывает.
- Ему каждый месяц выговоры лепят и премии лишают, - добавил второй.
- Давай попляшем, - предложил первый мужик и пустился выделывать незамысловатые кренделя. Второй, скорее из солидарности, чем от холода, стал переминаться с ноги на ногу.
Почувствовал и я, что замерзаю. Достал из дипломата заготовленную в подарок пол-литровую фляжку коньяка, откупорил и сделал несколько глотков. Тут девушка решила меня заметить. Я протянул ей фляжку.
- Можно? – робко спросила она.
- Ну, раз предлагают, - улыбнулся я.
Затем протянул фляжку танцорам.
- У нас свой имеется, - продолжая подпрыгивать, махнул рукой первый, - мы такое не пьём.
- Настоящий, сам варил, - указывая рукой на товарища, растолковал второй.
На горизонте появилась тёмная точка.
- Едет, - облегчённо вздохнул первый мужчина и, разбросав руки, завертелся в лихом танце, слегка напоминающем бразильский танец макулеле.
- Ну, даёт, - ухмыльнулся второй.
Еще через пару минут мы различили очертания автобуса и окончательно убедились, что едет наш долгожданный спаситель.
Наконец-то дверь со скрипом открылась, и мы, подталкивая друг друга, надеясь как можно скорее отогреться, ввалились в автобус. Но в автобусе царил тот же холод. Осматриваясь где бы разместиться, я заметил покрытое инеем треснутое окно и выбрал место на противоположной стороне. Девушка, не раздумывая, оккупировала последний ряд и расположилась вдоль всего ряда, дав понять, что ей попутчики не нужны, а мужики уселись сразу за водителем и тут же вступили с ним в оживлённый разговор.
Автобус медленно, надрывно громко завывая, тронулся с места. Сквозь треснувшее стекло врывался морозный холодный воздух, колол лицо и пронизывал до косточек всё тело.
Минут через двадцать ноги закоченели, я опять полез за фляжкой, сделал несколько глотков. За спиной послышался шорох и голос девушки:
- Можно я к вам? Там так холодно!
Я проворно откинул дипломат на переднее кресло и освободил место рядом с собой. Она осторожно села, прильнула к моему плечу, пытаясь согреться облокотилась на моё плечо и томно жеманясь сказала:
- Позвольте представиться, Татьяна.
- А я Ваагн, или Ваган. Как удобно, так и зовите. Слышали, в Москве есть Ваганьковское кладбище? Это в честь меня назвали.
- Ну и шуточки у вас, - рассмеялась она, поёживаясь и укутываясь в своё пальто.
Я расстегнул дублёнку, одной полой накрыл девушку и прижал её к себе, пытаясь обогреть своим телом промёрзшую попутчицу . Достал фляжку, Таня, не дожидаясь приглашения, схватила её и со словами «спасибочки, спасибочки» присосалась к горлышку.
Через полчаса мотор заглох, и автобус, проехав по инерции ещё 10 -15 метров, упёрся в навеянную ветром и схваченную морозом обледеневшую горку снега. Водитель, не суетясь, одел поверх тёплой куртки овчинку, вытащил из-под сиденья промасленный, видавший виды, черный портфель, судя по всему, с инструментами и, вспоминая маму неизвестного нам Сидорыча, вышел. Приподнялись с мест, предварительно пошептавшись, и наши попутчики.
В холодном автобусе с полуприкрытой дверью и трещиной в оконном стекле стало ещё холоднее. Тянуло встать и захлопнуть дверь, но что толку? Понимал, теплее не станет, только холод под дублёнку напустишь. Хотя надежды не окоченеть не было никакой.
«Приехали, - подумал я, с ужасом представляя последствия этой поездки».
Прошло ещё минут двадцать, а может и больше. Не было сил и смысла искать на запястье левой руки часы. Я вдруг сообразил, что уже долгое время там, у мотора, царит необъяснимая тишина, хотя до этого постоянно доносились характерные звуки ремонта мотора вперемешку с криком и бранью.
«Не сбежали ли?- промелькнуло в голове.- Кто его знает, ситуация, не дай Бог, кому попасть».
- Пойду-ка я посмотрю, что там они делают, - сказал я Тане и стал высвобождаться от дублёнки. Прикрыв своей половиной вконец промёрзшую девушку, я вышел из автобуса. Тотчас же вернулся, плотно прикрыв, скорее по привычке, чем по необходимости, дверь, растерянный и с непонятной улыбкой на лице.
- Ну что там, скоро ли? - жалобно пошевелила губами Таня.
- Водку пьют, самогонку и анекдоты рассказывают.
- Как водку, а мы!?
- Можем присоединиться, застолье в самом разгаре, скоро тамаду выбирать начнут, к этому дело идёт.
- Здесь недалеко село Михайловское должно быть, там мои кумовья живут, может, пойдём пешком? А так пропадём мы.
- С твоей-то обувью? Градусов 30-35, не меньше, и ветер довольно сильный.
- А что делать? Останемся здесь - точно погибнем.
- Хорошо, но ты наденешь дубленку, а я в пальто твоё влезу.
- Нет!
- Да!
- Не будем спорить, согласна, по дороге поменяемся.
Таня тряхнула волосами, надела шерстяной берет, заправила под берет косичку и мы вышли из автобуса. Мужики от удивления застыли: один с бутылкой, другой с гранёным стаканом, а водитель с гаечным ключом.
- Тут Михайловка должна быть, далеко ли? - спрашиваю их.
- С километра два и направо, - ответил первый.
- А там ещё четыре или пять кэме, - добавил второй.
- Удачи вам! – я помахал рукой, нахлобучил поглубже на голову ушанку из цигейки, мы развернулись и резвым шагом направились в указанном направлении.
- Не будем останавливаться, это нас спасёт, - по хозяйски крикнул я Тане и пропустил её вперёд. Мой голос заглушил сильный ветер, унесший с унылым свистом обрывок фразы.
Но Тане моя директива была и ни к чему, она не хуже меня оценивала незавидное положение, в котором мы оказались из-за нерадивого, безответственного, со многими другими отрицательными чертами характера водителя и с тем же, не заслуживающим уважения, рабочим состоянием, непригодного к эксплуатации рейсового автобуса. Стиснув зубы, она шагала, энергично размахивая руками, не сбавляя темпа. Я шел следом, дрожа от стужи, недобрым словом вспоминая знакомых, пригласивших в эту непогоду к себе в гости, окончательно замерзая на ходу, в легком пальто своей спутницы. К тому же, от сильного ветра время от времени у меня перехватывало дыхание.
С правой стороны едва угадывались смутные очертания деревенских домишек и, казалось, до них нам и за два дня не добраться.
Но к моей радости, мы легко дошли до перекрёстка, повернули направо и с удвоенной энергией зашагали в сторону села. Дорога спустилась в лощину и с полчаса мы видели лишь вечернее небо с крупинками ярких звезд, с удивлением наблюдающих за смельчаками, решившими прогуляться в трескучий мороз.
Вскоре показалось село, вернее замелькали по горизонту бессистемно разбросанные огни. И ещё минут через двадцать мы услышали лай собак, показались изгороди и первые дома. И вот Таня решительно повернула налево, отворила калитку и резко отреагировала на грозное рычание собаки:
- Акташ, на место, кому говорю!
Собака признала ее, заскулила и, повиливая хвостом, исчезла в своей конуре.
Дверь, как и водится в сельской местности, оказалась незапертой, и мы кубарем ввалились в жарко натопленную комнату. За столом двое пожилых людей предпенсионного возраста играли в карты.
Полная розовощекая женщина, увидев нас, всплеснула руками:
- Танечка, Боже мой, каким это ветром вас в такую погоду?!
- Теть Маш, вы лучше спросите, каким морозом, - ответила Таня и стала сдирать с себя обледеневшую одежду.
Тетя Маша перевела взгляд на меня:
- А говорили, невзрачный. Вась, погляди-ка, какой зятёк у нас! И заботливый какой, свою дублёнку на Таню надел, а сам в её пальтишке.
Подошла, обняла Таню и меня тоже к своей груди прижала, да столько сил вложила в этот жест гостеприимства, словно решила сплющить меня. У меня косточки дружно затрещали, все до единой, включая и копчик, и дыхание сбилось.
Таня лукаво посмотрела на меня. Я, тяжело дыша, ей ответил благосклонным взглядом, мол, всё нормально, главное отогреться.
- Ой, что это я, раздевайтесь, раздевайтесь, - спохватилась тетя Маша, - Вась, баня, небось, остыла уже, а ну пойди, подбрось дровишек. Им отогреться надо обязательно. Иди-иди, нечего глазеть, потом насмотришься.
Потом к нам обратилась:
- Вы тут у печки поворкуйте, пока я на стол накрою. Располагайтесь, - сказала она и вышла из комнаты, по пути прихватив полотенце и пару мужских трусов с верёвки, протянутой через комнату.
- Я не пойду в баню, - насупилась Таня, - вы (она перешла на "вы" один пойдёте.
- Таня, я один не пойду. Во-первых, хозяева не поймут, а во-вторых, если вы (и я тоже последовал её примеру) основательно не прогреетесь, то заболеете и сляжете надолго.
- Нет, нет, не уговаривайте меня.
- Тогда я сейчас соберусь и уйду. Вот только чаю попью, если не возражаете.
- Как? - растерялась Таня.
- Таня, я буду в трусах, вы в купальнике или что там у вас? Вы что, на пляже никогда не купались? Нам нужно отогреться, иначе кому-то из нас хана.
- Хорошо, но я надеюсь на вашу порядочность.
- Если я до сих пор никак не зарекомендовал себя, то только могу выразить своё сожаление.
- Не обижайтесь на меня, и так голова кругом.
- Я вас понимаю. Слава Богу, что выкарабкались. Сейчас нас к чаю позовут.
И действительно, из-за занавески раздался голос тёти Маши:
- Танечка! Давайте сюда.
Мы прошли на кухню.
- Может, дядю Васю подождём, а, тёть Маш? - чтобы как-то скрыть свою неловкость, спросила Таня.
- Ты за него не беспокойся, он своё не упустит, ещё тот гусь! Садитесь.
Только разлили чай из огромного самовара, как появился дядя Вася и торжественно водрузил на середину стола бутылку самогонки.
- А ну убери, только после бани, ишь ты! Кому сказала? - вскипела тётя Маша.
- Да ладно тебе, пред людьми хоть не позорься, - заныл дядя Вася, - гостей по-людски встречать надо, а не пустым чаем.
- Убери, и точка. Сейчас они только чаю - перекусят и всё. Чтобы не на пустой желудок париться. После бани и посидим.
- Так бы и сказала, а наезжать-то зачем? Откуда я знаю, что у тебе на уме?
- Столько лет живёшь со мной, но так ничего и не понял? И как только я за тебя замуж вышла?! Такие парни сватались, не хуже твоего, Таня, а я за этого дурня.
- Ну убрал уже всё, чо тебе надо. Был бы повод языком почесать. В понедельник начнёт и в пятницу только к вечеру закончит, - стал ворчать дядя Вася, убирая бутылку со стола.
Тетя Маша повернулась к нам:
- А вы пейте, пейте, не обращайте на него внимания, он у меня такой страшный балаболка.
- Погоди, Маш, - перебил её дядя Вася, с обстоятельной деловитостью приступив пить чай из кружки, - вы не особо рассиживайтесь, банька в самый раз, потом допьёте. Этого товару у нас… вон, в ведре полно.
Мы прошли в баню, разделись, понятно, до трусов, а Таня на всякий случай ещё и полотенцем обвязалась. Начали мыться, стараясь не смотреть друг на друга, каждый в своём корыте. Напряжение спало, как только пару добавили и пот градом пошёл. Тут уже расслабились, стали друг друга веником парить, да водой окатывать. Прогрелись основательно, чувствовалось, как весь мороз из тела вышел. Одевались, не договариваясь, по очереди, как-то само собой произошло. Таня подождала меня в предбаннике, и мы вместе зашли обратно в хату.
Тётю Машу застали посередине комнаты с подушками в руках.
- Тётя Маша, - обратился я к ней, - можно вас попросить мне постелить отдельно?
Таня выдернула из рук тёти Маши подушку, сердито посмотрела на меня и, резко отвернувшись в сторону, твёрдо заявила, - спать вместе будем!
Утром следующего дня, наскоро позавтракав я, сославшись на неотложные дела и, поблагодарив гостеприимных хозяев, отправился на автостанцию. Таня вызвалась проводить меня.
- Может, вдвоём поедем? - уже на автостанции обратился я к ней. Таня промолчала, а затем спросила:
- А тебе это нужно?
- Да.
- Не знаю, не знаю - она пожала плечами и, поеживаясь, добавила, - я бы не хотела расставаться...
- Вот здесь, вот… я записал, - я протянул вчетверо сложенный лист бумаги с моим адресом.
Таня не сразу взяла, словно ожидая подвоха, о чём-то думала. Затем мельком взглянула на адрес и небрежно сложив, спрятала в рукав.
______
Возвращался я с невероятным ощущением душевной опустошенности. Состояние - вроде как меня за руку поймали, за кражу чужого счастья. Мысленно пытался прикрыться естественным стечением обстоятельств, не получалось.
К полудню добрался до своей избы, и весь остаток дня слонялся из угла в угол, всё валилось из рук. По телевизору транслировали финал кубка СССР по футболу, встречались луганская “Заря” и ереванский “Арарат”. Я, страстный болельщик нашей армянской команды, долгие месяцы ожидавший этого знаменательного дня, выключил телевизор, спустя пятнадцать минут после начала игры.
Сидел в полутьме, ни о чём не думая. Как вдруг, в десятом часу вечера, раздался стук в дверь. Сердце учащенно забилось, я вскочил и теряя тапочки рванул в прихожую. Резко отворил дверь и…
На пороге стояла Таня и улыбалась мне.
55. Сахалин. Год третий.
- Ваагн Самсонович, можно вас поздравить? - в школе на третьей перемене ко мне подошла Элеонора Рафаэловна, преподаватель физкультуры, дочь директора гостиницы, кореянки Мальвины Эдуардовны.
- С чем? – я остановился в ожидании продолжения.
- Как с чем?! Ваша благодетельница Мария Петровна в гору пошла, теперь она второй секретарь обкома, еще и Героя Соц. Труда получила. Сплошные праздники. Когда отмечать будем?
- Да в любое время, приходи к нам в гости.
- Твоя Танюша хорошо готовит. Знаю, знаю. Мы с ней в пятом классе в одном отряде были.
- И что, она в пятом классе кашу варила?
- Нет, - разулыбалась Элеонора Рафаэловна, - просто вспомнилось.
- Вот и заходи, будет о чем поговорить.
- Зайду, конечно. Я все хочу спросить вас, “Вы на Красной площади-то были?”
- В каком смысле?
- Ну, там, где Мавзолей стоит?
- Да каждое воскресенье.
- Ну, уж, каждое… - она с недоверием посмотрела на меня.
- Если нужно было в ГУМ зайти, то волей неволей пару метров по площади и проходил.
- ГУМ?
- Ну да, это аббревиатура - Государственный Универсальный магазин.
- Универмаг, что ли?
Я кивнул головой, - Только большой.
- Так и говорите, а то ГУМ, БУМ, ДУМ- расхохоталась Элеонора Рафаэловна:
- Ну так передайте Танюше привет от меня.
(Как вы догадались, уважаемый читатель, Таня, это та девушка, с которой меня метель свела. Она предпочла меня своему жениху, показала тому от ворот поворот и со мной осталась)
__________
В районе сложилось мнение, будто Мария Петровна, третий, а теперь уже, как выясняется, второй секретарь Сахалинского обкома является моей покровительницей. Нет-нет, да и спросят знакомые: «Как она там? Управляется?» Я со знанием дела, словно бы пару минут назад по телефону вёл с ней непринужденную беседу, охотно киваю головой. Начальство-то меня не особо жалует. Видимо, им известны истинные причины нашего знакомства, но палку не перегибают, осторожничают. Мало ли? От греха подальше.
Проводил я взглядом преподавательницу физкультуры, полюбовался её точеной фигурой и легкой спортивной походкой, вспомнил Марию Петровну.
“Может действительно позвонить, поздравить? Какой- то я неотесанный. Уже третий год на Сахалине, должен был бы еще тогда, два года назад, по приезде в Черногорское, позвонить, поблагодарить. Там, в кабинете, промычал, ничего толком не сказав. А уехал, тем более напрочь её забыл. Можно было бы в дни её рождения о себе напоминать, открытки на Новый год, Восьмое марта посылать. Хотя бы открытку, если на большее не способен. Ведь меня, как министра, встречали. Что ж теперь, - махнул я рукой, - первое, что она, если не спросит, то наверняка подумает, если вообще на звонок ответит: «Где ж ты, милок, до сих пор-то пропадал?» Да и номера телефона у меня нет. Тогда, в кабинете, не сообразил записать, а теперь что? Начну выяснять, скажут: «Если у тебя даже номера телефона нет, что ж ты нам два года лапшу на уши вешаешь!?»
-----
С этими размышлениями я дошел до своей калитки, но не успел её отворить, как с противоположной стороны улицы меня окликнул незнакомый мужчина:
- Ваагн, обожди,- буркнул он и грузно переваливаясь с ноги на ногу, направился ко мне. Он приближался, тяжело дыша и кряхтя , а я вглядывался в покрытое щетиной лицо незнакомца, пытаясь определить, откуда я его знаю. Человек был мне знаком, какое-то третье чувство подсказывало, что я когда-то общался с ним.
Мужчина подошел, пронзил меня суровым взглядом и протянул руку.
- Колян!!! - меня затрясло от ужаса, - Что это с тобой!
Колян усмехнулся.
- Долгий разговор, приходи ко мне завтра вечером. Помнишь, где я живу?
Переулок я помнил, а остальное - смутно, но уверенно ответил:
- Помню, конечно. Приду обязательно. После работы сразу к вам.
- Годится. Как мы здорово посидели в день твоего приезда, а? - с грустью произнёс он.
- Помню, помню и очень благодарен тебе, вам. Насте передавай привет.
- Насти нет больше, закончилась Настя, - крякнул Колян и крестом сложил на груди руки. - Уехала к себе в деревню, к матери, в колхозе дояркой работает.
- Что это с вами, дорогой мой Колян?
- Завтра расскажу, приходи, - перебил меня он.
В свою очередь и я, показывая рукой на дверь, пригласил его:
- Может, зайдешь?
- Хозяйка дома?
- Должна быть.
- В следующий раз, - замялся Колян, - мне еще кое-какие вопросы порешать надо.
И уже перейдя улицу, обернулся:
- С собой ничего не бери, у меня все есть.
56.
Дом Коляна я сразу определил, но для уверенности переспросил у соседки. Та возилась в палисаднике.
Соседка, услышав мой вопрос, выпрямила спину, опираясь на сапку, ловким движением поправила край платка над бровями. Затем смерила меня игриво-дерзким взглядом:
- Новенький, что ль
Не дожидаясь ответа, указала рукой на дверь Коляна и отрешенно добавила:
- Там он, там, иди уж.
Я поднялся по ступенькам в сени. Потянуло холодом и сыростью. Сквозь полуоткрытую дверь, что вела в комнату справа, увидел светящийся экран телевизора. Вошел в эту комнату. Колян в кирзовых сапогах и в телогрейке лежал на диване, спал. Всё такой же небритый, осунувшийся. Я сел на ближайший стул, стал осматриваться. Это была та самая комната, в которой я провел первую ночь на Сахалине.
Сейчас, в отличие от той со вкусом убранной, прогретой любовью и заботой комнаты, царил полный беспредел: на столе, на стульях, на сером от грязи и пыли полу, повсюду разбросаны инструменты. Тут же под ногами пустые бутылки из-под водки, ломтики черствого хлеба, высохшие желтые сырки, сросшиеся с фольгой обертки, открытая банка с почерневшей килькой, немытая посуда. И эту неприглядную картину завершала, словно купол, огромная паутина над покрытой толстым слоем пыли иконой в углу.
Вглядываюсь в лицо Коляна и с трудом узнаю его. Что случилось? Казалось бы, такая крепкая и дружная семья. Настя? Помню, знакомясь со мной, с какой гордостью она произнесла: «Настя, вторая половинка Николая».
Думалось еще немного и Николай займет директорское кресло, на всех уровнях открыто поговаривали об этом. И вот теперь он лежит, с виду бомж. А как живёт, чем занимается? Кто его знает... Не стану будить, решил я, посижу немного и уйду.
Но через пару минут Колян встрепенулся и, опираясь на локти, приподнялся, обвел мутным взглядом комнату:
- А! Ваагн, пришел!
- Добрый вечер, Колян, - улыбаясь, я протянул ему руку и помог сесть.
- Это ты хорошо сделал. А который час? - Спросил он и стал растирать виски. По красному с бордовыми переливами, напряженному лицу было понятно, что Колян страдает повышенным давлением.
Он сбросил сапоги на пол, толчком ноги задвинул их под кровать, содрал носки, отшвырнул от себя подальше в разные стороны и стал чесать почерневшие, покрытые трещинами неухоженные ступни.
- Вот такие-то дела, Ваагн. Попёрли меня с работы, паскуда там одна есть… - он сморщил лицо и усердно замотал головой:
- Между прочим, из-за тебя и поперли… Да, да ! За то, что таких, как ты, защищал…
- Настя надолго уехала?
- Да хер с ней! Настя. Что, больше баб нету? Пока ты при деньгах, да при деле, вертятся вокруг тебя, а как споткнёшься, так первыми же… Как крысы с корабля.
Я слушал его и не мог найти тему для живого, непринужденного разговора, тянуло помолчать. Но тишина угнетала, воздвигала между нами незримую стену отчуждения и все более отдаляла нас друг от друга, сказывалось отсутствие общения за эти годы.
Я решил воспользоваться случаем и напомнить Коляну о своём незавидном положении, полном тревоги и неизвестности, в каком оказался по неведомой мне причине. К тому времени у меня сложилась твёрдая уверенность в том, что и по истечении трехлетнего срока мне не разрешат покинуть остров, и это обстоятельство лишь усиливало моё беспокойство, если хотите, меня охватил страх за своё будущее, и ни на минуту не покидал меня.
- Колян, я давно хотел тебя спросить. Года полтора, уже два неполных прошло с тех пор, как однажды остановила меня Настя. Тогда она мне, вроде как по секрету, сообщила, что мне придётся все три года безвылазно сидеть на острове, мол, такое решение есть, три года не выпускать отсюда. Взяла с меня слово никому об этом не рассказывать, если кто узнает, то и Коляну, и ей попадёт. Я и молчал всё это время. Мог бы ты теперь объяснить - за что? Что я такого натворил?
- Настя ?! – взвизгнул Колян. - Актриса она, эта твоя Настя. Так мы сами поручили ей с тобой поговорить. - Колян стал бить себе в грудь, - Ты же пёр, как танк. Надо было как-то остановить тебя.
- А зачем меня останавливать, Колян?! Что я такое натворил?
- А ты своего дружбана Виктора Арнольдовича спроси.
- Я не знаю никакого Виктора Арнольдовича.
- Хватит. Ты эти сказки где-нибудь в другом месте рассказывай. Мне всё известно, нам всё известно.
- Колян, я тебе честное слово даю, я не знаю такого человека.
Колян почесал голову.
- Вы, по-моему, его Аркадьевичем звали. Так? Виктор Аркадьевич. Правильно? Был такой? Он по паспорту-то Арнольдович.
- Да, это известный поэт, автор более десятка книг, член Союза писателей.
- Известный? Нашел известного. Я известный, - он показал рукой на себя, - вот ты известный. А он кто такой? Да никто. Его можно было вот так, пальцем, как комара, - Колян красочно изобразил, как давил бы комара. - Да непонятно, чего цацкались с ним.
- Хорошо, у вас к нему претензии, а я тут причём?
- А при том, что не хера было всякие воззвания подписывать.
- Ничего я не подписывал.
- У меня на столе лежало открытое письмо с угрозами, там и твоя подпись стояла.
- Помню, один раз только...
- Один раз, один раз. Один раз саданул - уже не девочка.
- А потом там не было угроз.
- Ну, это как посмотреть...
- И только из-за этой подписи?
- Успокойся, не в тебе дело. Не обижайся Ваагн, ты ведь мелкая сошка, хотя и мой друг. Буянить начал тот черножопый поэт из Кубы, лауреат, у него регалий до хера. Как его звали?
- Николас Гильен?
- Он самый. Мол, не дают работать, хорошее дело губят. Вот и нужно было разбросать вас, всех подписантов, чтобы показать, что в Москве никого не осталось, некому строить этот “Глобус поэтов”. Все разъехались и забыли. Не веришь, езжай на Сахалин, Карапетян там окопался, между прочим, добровольно уехал. Мечтал на Сахалине работать, и сбылась его сокровенная мечта.
Колян злорадно рассмеялся, но, увидев моё помрачневшее лицо, осёкся и уже спокойно, вроде как с намерением успокоить меня, продолжил:
- Между прочим, меньше всего возни с тобой было. Только удочку забросили, ты тут же и попался на крючок. В Управлении над тобой, уж извини, ржали, аж животы надорвали.
- Ну хорошо, на пару дней-то мог поехать?
- На пару дней… а где гарантия, что ты бы вернулся? Вот-вот! Что ж прикажешь, в наручниках тебя обратно на остров тащить? Уж лучше в психушку сразу... Мы ещё гуманно с тобой поступили. Я тебе серьезно говорю. Ты ведь многого не знаешь, и ни к чему тебе всё это знать. Живи, дыши свежим воздухом. По большому счету, к тебе нет претензий. Знаю, ты в партию рвёшься, никто не намерен тебе мешать. Но и, сам посуди, заслуг у тебя особых нет, чтобы без очереди, а очередь большая, если на пару лет задержишься, то вступишь. Дело закрыто, ты чист.
С иностранцами, правда, повозиться пришлось, сложности всякие, но нам основательно нервы этот сибиряк попортил, упирался падла, еле угомонили.
- А Урин ?
- Твой Арнольдович к себе на родину удрал, бросил вас всех и смотался.
Слушал я Коляна и понимал, что это, очередное, из ряда вон выходящее “открытие” вряд ли выдержит мой мозг. Смогу ли пережить и не свихнуться?..
Ради приличия я решил не спешить с уходом, но, к моей радости, Коляна потянуло ко сну. Он опять растянулся на диване, обнажив до колен свои большие, давно не мытые ноги, затем свернулся калачиком и чуть слышно прошептал: “Щас картошки нажарю…” Затем два раза громко пропукал хорошей автоматной очередью, сделав невозможным присутствие гостей в комнате, и его невнятное бормотание сменилось громким храпом.
57.
Таня открыла дверь и, увидев моё каменное лицо, обомлела.
- Опять тебе настроение испортили?
Я отмахнулся, дал понять, что пока не настроен обсуждать причину отсутствия сияющей улыбки на моей физиономии. Машинально обнял её, чмокнул в щёчку и прошёл в спальную комнату переодеться. Сбросил одежду, накинул халат, плюхнулся на диван и включил телевизор. Шёл повтор прошлогоднего концерта во Дворце Съездов, посвященного дню восьмого марта. На сцену, робко расшаркиваясь, вышел новичок, вертлявый такой мальчишка, внешне похожий на цыгана. Когда он проплясал свою песню, объявили, что исполнитель - лауреат, какого-то, уж и не помню, юношеского конкурса Валерий Леонтьев. «Точно, цыган» - подумал я и вспомнил, что со вчерашнего дня еще оставалась бутылка пива. Достал её, перелил содержимое в свой персональный пол-литровый бокал и уселся поудобнее. Таня молча прикорнула рядом и продолжила вышивать крестиком картину “Девятый вал” Айвазовского.
За Леонтьевым на сцену, тяжело поглядывая в зал, взошёл сам Иосиф Кобзон. Вот этот другое дело, по-военному вытянулся, и руку по ленински вскинул, брови нахмурил, парик поправил, сразу видно - наш человек.
Затем засверкал на экране своей лучезарной улыбкой легенда советской эстрады Леонид Утёсов и пропел свою коронную песню про Мишку, который уходит..
Всякий раз, когда я слушаю эту песню, не могу понять чем руководствовался Леонид Осипович, когда вносил эту песню в свой репертуар. Успел ли он прочитать текст песни, перед тем как начал её разучивать? Это ведь женская песня, и исполнять её дОлжно женщине.
"Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка -
То, что ты уходишь от меня".
Если бы эти призывы звучали из уст, к примеру, Клавдии Шульженко, то учитывая её любвеобильный характер, было бы понятно. Но когда женские воздыхания озвучивает мужчина, да ещё с главной трибуны Советского Союза, с Кремлёвской сцены, в стране где, за неимением иного предмета гордости, пропагандируется социалистическое целомудрие, задумываешься, с чего бы это.
Вроде бы Леонид Утёсов с виду нормальный мужик и в гомосексуальных связях не замечен. А там кто его знает, как говорят: “Чужая душа - потёмки”. Здесь как раз к месту поговорка “Из песни слов не выкинешь! И озвучивает вот уже не одно десятилетие, крепко сложенный мужик, каким нам представляется Утёсов, вот эти слова:
Я с тобой неловко пошутила,
Не сердись, любимый мой, молю.
Ну не надо, слышишь, Мишка, милый,
Я тебя по-прежнему люблю.
"Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка -
То, что ты уходишь от меня".
Самое парадоксальное кроется в том, что под воздействием авторитета великого Утёсова запели эту песню и другие исполнители мужского рода. Среди них отличились (Как сказал бы прапорщик Сидоров) Пётр Лещенко, известный дуэт Павла Рудакова и Венедикта Нечаева, группа Доктор Ватсон, Аркадий Укупник. Последний просто обязан был не упустить возможность подчеркнуть свою половую самостоятельность.
Но я отвлекся...
А впрочем я мысленно ещё у Коляна находился и по новой прокручивал его откровенное признание о безвыходной ситуации, в которой я оказался.
- Танечка, - я дотянулся до кнопок телевизора и приглушил звук, - сегодня зашел в гости к одному знакомому… Когда-то общался с ним… Его перевели в КГБ и он тогда сам отстранился от меня, а я не люблю навязываться… Вчера вечером случайно встретились, я с трудом его узнал, он пригласил, вернее, попросил сегодня к нему зайти. Сложно представить во что он превратился. Когда- то прилизанный, ухоженный… а вчера ко мне не он, а настоящий бомж подходит… Да любой бомж приличнее смотрится.
- Ваганчик, успокойся, - перебила меня Таня, заметив перемену на моем лице и стала по руке гладить:
- Ну его, не рассказывай, ты очень переживаешь.
- Да, наверно… Тебе и не интересно это…
Таня пересела ко мне на колени и обняла меня: - Я люблю тебя, глупый мой, ты мне очень дорог, не хочу, чтобы так переживал. Но если это для тебя так важно, то поделись, но не принимай близко к сердцу. У него своя жизнь, у тебя своя. К тому же, у тебя я есть.
Она улыбнулась и, намереваясь отвлечь от тягостных мыслей, крепко-накрепко сжала меня в своих объятиях. Я решил ответить ей поцелуем, но, стесненный в движении, угодил в шею, чем вызвал прилив искреннего смеха, заулыбался и, силясь освободиться из её объятий, слегка отодвинулся:
- Понимаешь, он мне такого наговорил, волосы дыбом, рассказал причину всех моих неудач... Как все странно… Какая-то бумажка, подпись… Господи, да выкинули ее и забыли. Но нет, ковыряются, создают проблему. Играют судьбами людей, вот именно играют. Забавляются. А потом, как дети, радуются тому, что удалось объегорить… унизить… Всего одна подпись и столько неприятностей! – я вскочил на ноги.
- Понимаешь? Всего одна подпись! Я вновь напрягся, заходил по комнате и, чтобы успокоиться, настежь открыл окно. В комнату ворвался свежий холодный воздух. Резвый ветерок, словно бы дорвавшись до свободы, лихо промчался по комнате, разметал стопку бумаг на табуретке по полу.
– Ну, всё, - рассердилась Таня, - дошел до ручки, сам убирай теперь.
Подобрав и сложив на место разбросанные бумаги, я вспомнил историю армянского поэта Гарика Бандуряна, которого так же, как и миллионов граждан нашей страны, коснулись репрессии сталинского режима, пересказал её Тане.
Гарик Бандурян в то время учился в девятом классе. Как-то поздно вечером засиделся он с товарищем у своего одноклассника. Ну и увлеклись ребята, решили создать, ни много ни мало, Армию сопротивления и, самим возглавить её. Для начала подготовили, так называемый призыв, или воззвание, к армянскому народу, мол, вставайте люди добрые на борьбу с советским строем. На листе, вырванном из школьной тетради, неровным почерком написали несколько строк и все трое подписались, представившись членами тайной армии освободителей Великой Армении от сталинского режима. Затем, уже за полночь, таясь и крадучись, прилепили это воззвание на стену одного из центральных зданий города. Разошлись по домам и … благополучно забыли. Но НКВД (переименованный уже после Сталина в КГБ) не дремал. Это воззвание, очевидно, первый же читатель аккуратно отодрал от стены и вприпрыжку на радостях, что может угодить нашим славным органам, блюстителям духовной чистоты советского общества, помчался в НКВД и сдал из рук в руки.
Как тут не вспомнить реплику Сергея Довлатова «Сталин, конечно, плох, но кто же написал четыре миллиона доносов?» Через три года у автора текста этого воззвания к армянскому народу, появилось желание стать чекистом. Он добровольно переступает порог этой организации, пишет заявление…
А в КГБ всё ещё продолжается поиск, не унимаются они, жаждут изловить членов тайной армии освободителей Великой Армении. Хотя даже мельком взглянув на школьный лист в клетку, опытным чекистам не сложно определить, что имеют дело всего лишь с чудачеством малолеток, я уже не говорю о том, что последующие годы показали, что это воззвание - один единственный акт, на который отважились члены этой “тайной армии освобождения”.
И все же дан приказ найти, поэтому «воззвание» размножили, и сотрудники КГБ принялись, не зная сна и отдыха, сличать почерк с отчетами бухгалтеров, с заявлениями молодых людей в ЗАГС, репортажами журналистов и свидетелей с места событий, научными докладами, кандидатскими и прочими диссертациями, и это мероприятие затянулось на три года. Когда чекисты совсем было приуныли, опустили руки, несостоявшийся контрразведчик, по совместительству командир тайной армии, сам явился в логово врага, ничего не подозревая и улыбаясь, вполне легально и добровольно, но сие обстоятельство блюстители правопорядка не приняли во внимание...
Казалось бы, на этом можно и поставить точку. Но чекисты не спешили потирать руки, так как им мало найти тайного, вернее, притаившегося врага и обезвредить его. Нужно это дело раздуть до нужной кондиции, до той, после которой последуют из Москвы объявления благодарности и дополнительные звездочки на погонах. Что и было с успехом осуществлено. Вся тайная армия в составе трёх подростков в силу тяжести содеянного - преступного намерения со всеми вытекающими отсюда последствиями - получила по заслугам, то есть по десятке на брата.
-Ты ещё легко отделался, не те времена, к счастью, - выслушав мой рассказ, вполне серьёзно заключила Таня.
Вспомнился мне ещё один эпизод “оттуда”, рассказанный в минуты откровения Гариком Аветисовичем, как мы в те годы к нему обращались.
У тюремного руководства сложилась, на первый взгляд, хорошая практика - за примерное поведение освобождать заключенных за полтора - два года досрочно, и в колонии заметно повысилась дисциплина.
Заключенные, уроженцы Армении и, в частности Еревана, когда среди счастливчиков оказывался один из них, снабжали товарища письмами и адресами своих родных и близких. Для писем использовали папиросную бумагу, но на ней много не напишешь, поэтому основное он должен был на словах передать, уже навестив родственников. За чашкой чая подробно рассказать о всех перипетиях тюремной нелегкой жизни. Но проходило время и выяснялось, что бывшие “коллеги” по бараку, оказавшись на свободе, забывали своих сокамерников, не навещали родственников и писем не передавали. Сложилось впечатление, что они попросту письма выбрасывали. Так продолжалось бесконечно долго, получали досрочное освобождение новые товарищи, а выйдя на свободу, тут же забывали о данном слове, хотя и, покидая тюрьму, клялись в обратном.
На очередной утренней перекличке начальство обрадовало и Гарика Бандуряна сообщением о досрочном освобождении, и как только заместитель начальника тюрьмы по политико - воспитательной работе перед строем зачитал долгожданный указ, товарищи принялись обнимать и тискать счастливчика. А Гарик им в ответ - пишите письма и адреса давайте. Махнули рукой друзья-товарищи, подняли его на смех, мол, не такие как ты в грудь себя били, обещали век помнить, куда уж тебе. Езжай-ка ты подобру поздорову, будь счастлив, даст Бог увидимся. А Гарик не унимается, на своём стоит: ” пишите письма!”
Что делать, нашпиговали его бушлат письмами, вшили крохотные листочки в рукава, в воротник и под полу, адресами снабдили. На следующий день администрация торжественно перед строем вручила ему приказ об освобождении и проездные документы и он под аплодисменты заключенных, волнуясь и неровно шагая, вышел за ворота тюрьмы.
А у самых ворот скамейка деревянная, Гарик, перед тем как отправиться в путь-дорогу, (до станции километра три идти) решил несколько минут на скамейке посидеть, успокоиться, подышать свежим воздухом, воздухом свободы. Сел, значит, откинул голову назад, небом любуется, размечтался о доме, о днях пережитых, о потерянном времени, которое теперь наверстывать нужно и засиделся чего-то. А напротив, поодаль солдаты стоят, он их сразу заприметил, но не придал им особого значения, пятеро краснопогонников с автоматами на груди, и главное, с ноги на ногу переминаются и в свою очередь на него посматривают.
Краснопогонники либо устали ждать, либо время поджимало, кто его знает, пошушукались и подошли к Бандуряну
- Ну, вставай, чего расселся, - рявкнул по привычке насмешливо и грубо один из них.
Бандурян, смиренно обратился к солдатам:
- Ребята, вы не по адресу. Я уже свободный человек, мне на станцию нужно.
И полез во внутренний карман за приказом об освобождении. Извлёк на свет божий вчетверо сложенный лист и стал трясущимися от волнения руками разворачивать. Рыжий низкорослый краснопогонник не выдержал его возни, злобно посмотрел на Бандуряна и выхватил листок. Не читая, невнятно проворчав, разорвал приказ на мелкие кусочки. Гарик Аветисович от неожиданности встрепенулся, но на него уставились дула пяти автоматов. Старший сержант, командир группы, в свою очередь вытянул из своего планшета лист с гербовой печатью и передал Бандуряну.
- Ознакомься, гражданин Бандурян.
Гарик Аветисович стал медленно вникать в текст, с трудом улавливая смысл. “ Транспортировать заключенного Гарика Аветисовича Бандуряна для дальнейшего отбывания срока в колонию № 134.”
И так, конвойные надели на расстроенного Бандуряна наручники и повели на ту же станцию. Уже в поезде до него дошло, что таким образом, администрация решала вопрос повышения дисциплины в колонии, и что ей, надо признаться, удавалось..
И эти письма не дошли до адресатов, и Бандуряна не дождались родственники заключенных, жители столицы Армении. И Гарик Аветисович Бандурян не выполнил своего обещания.
______
- Грустно, всё это, - закивала головой Таня, всё ещё не отпуская меня.
Крепко сцепив руки на моей шее, она прижалась губами к моему уху. Её тёплое дыхание посылало сотни мурашек по телу, побуждая меня настроиться на приятную волну... Но я, скорее всего, по инерции продолжал высказывать свои размышления вслух.
- В принципе, я даже рад, что попал сюда, где-то же надо было работать. А почему не здесь? Под Москвой, куда бы меня точно отправили, атмосфера ещё та! Один выпендрёж и высокомерие... Вот бы ещё мне в партию здесь поступить.
- А зачем это тебе нужно?
- Понимаешь, в нашей стране, чтобы сделать успешную карьеру, нужно иметь как минимум два документа: диплом и партбилет, тогда и достаток будет в доме.
- А какая связь, я ничего не пойму.
- Вот простой пример директор школы Клавдия Михайловна имеет оба документа и соответственно катается по заграницам, то в Париже, то в Берлине, а у Марии Васильевны, учителя физики, только документ-диплом и катается она либо в лес по грибы либо в деревню к родителям мужа картошку подбивать.
- А вот действительно. Ты прав! - воскликнула Таня, - какой ты смекалистый у меня.
- И в партию поступить на периферии шансов больше хотя и здесь и очередь нужно выстоять. и связи иметь.
Пришлось мне в Коломне практику проходить, целый месяц там кантовался, не понаслышке знаю. Там о партии и заикаться нельзя одни склоки да сплетни меня бы доконали. Здесь же прохожу хорошую школу.
И усмехаясь, добавил:
- Там, на материке, лишь единицы могут похвастаться тем, что работали на Сахалине, вот среди них теперь и я буду.
- Согласна, но там, на материке, ты бы лучшую выбрал, с такой как я и возиться бы не стал.
- За это время я, если не ошибаюсь, раз пять тебе предлагал расписаться. Вот шестой раз предлагаю, пойдем прямо завтра, подадим документы, - занервничал я.
- Не нужна я тебе, Ваганчик.
- Ты опять за свое. А я тебе нужен?
- Да.
- Тогда идем завтра.
- Завтра суббота.
- Ну, в понедельник.
- А вот в понедельник и поговорим. Допивай пиво, и идем спать.
58. Судьба
Уже в постели, когда мы от усталости откинулись друг от друга и рассматривали потемневшие брёвна потолка, я вдруг вспомнил старого человека, ещё одну жертву сталинского режима, в полной мере познавшего прелести самого гуманного строя в мире, если верить повсюду развешанным плакатам, с огромным серпом и молотом и мужиком со злобными глазами, либо с тем же мужиком, но сжимающим красный кулак огромного размера.
А вспомнил я его потому, что всё ещё находился под впечатлением своего же рассказа о сломленной жизни Гарика Аветисовича, который всю оставшуюся жизнь прожил, не пытаясь побороть в себе страх перед властью.
- Тань, ты спишь?
- Уже нет, - ответила, открыв глаза, Таня и придвинулась ко мне.
- Давай, рассказывай.
- Нет, я и не …
Таня усмехнулась, - а то я тебя не знаю. Слушаю.
Она, помахав указательным пальцем перед моим носом, заерзала на спине, устраиваясь поудобнее.
- Да, вот о Бандуряне рассказывал и вспомнил другую историю, не менее драматичную.
В Коломне, где я практику вместе с двумя однокурсницами Ириной и Ларисой проходил. Я рассказывал тебе об этом. Мы как-то вырвались в Москву и отец Ларисы, Владимир Сергеевич, чтобы рано утром нам не тащиться на вокзал, решил на своей шестёрке вечером нас в Коломну подбросить…
Я закрыл глаза и вспомнил тот холодный проливной дождь. Март месяц, как всегда, выдался слякотным и морозным. За полночь температура опускалась ниже нулевой отметки и лужи сковывала тонкая корочка льда.
И тот вечер не стал исключением. Мы только выехали из Москвы, как полил дождь и через щётки стеклоочистителей, которые, издавая неприятный скрежет, отчаянно метались по стеклу, не в силах справится с дождём, мы увидели на обочине сгорбившуюся фигуру человека...
… Это был глубокий старик, под девяносто лет. Он стоял, понурив голову, не пытаясь уберечься от дождя. Всматривался вдаль, не голосовал, очевидно рассчитывал, что кто-то из водителей смилостивится и притормозит. Этим водителем и оказался отец Ларисы Владимир Сергеевич. Мне пришлось выскочить под дождь и пересесть на заднее сиденье к девушкам, а старик, кряхтя и изливаясь в благодарностях, уселся на моё место, рядом с отцом Ларисы.
Владимир Сергеевич сразу предупредил, что за проезд он денег не возьмёт, но и с дороги сворачивать не станет, если устраивает, то.... Старик охотно закивал головой и, растягивая слова, ответил, - и на том спасибо, барин.
Проехали молча несколько сёл и, когда впереди замелькали огни на фасаде небольшого строения, Лариса тронула отца за плечо:
- Пап, ты ведь обещал!
- Действительно! - отозвался отец, сбавил скорость и обратился к старику, - если не торопитесь, здесь “Чебуречная” рядом. С куриным бульоном, ох как вкусно, пойдемте, поужинаем, я угощаю.
- Спешить-то мне некуда, разве что… - сделав паузу, вздохнул старик и, соглашаясь, кивнул головой. Затем повернулся к нам и, лукаво прищуриваясь, добавил, - а я, признаюсь, давненько не ел чебуреки, старуха моя славно готовила, да куда уж теперь....
- Дедушка, а я их каждый день ем, - не дослушав деда, гордо выпалила Ирина, у которой уже наблюдались признаки полноты.
- Не надо ля-ля, - фыркнула Лариса.
Но диалог, грозивший перерасти в очередную перепалку, а может быть и сору, так и не получив продолжения, прекратился, так как в эту минуту мы подъехали к “Чебуречной”.
Вышли из машины и вприпрыжку, спасаясь от дождя, помчались под козырёк, зависший над дверью ярко освещенного заведения.
В полутемном зале, несмотря на дождливую погоду, сидело немало народу, но мы заметили свободный столик в углу, и я поспешил, сбивая стулья и официантов, занять его. Тут же подошла молодая пара и попыталась отжать половину стола, но вовремя подоспело подкрепление и молодые ретировались, поняв , что мы и числом и уменьем наголову их превосходим.
Мы расселись. Владимир Сергеевич сел рядом со стариком и протянул ему руку:
- Я - Владимир Сергеевич, главный инженер металлургического завода “Серп и Молот”.
- А я - Семён Васильевич Скворцов, уже полвека, как безработный. А в прошлом сотрудник МГБ, из отдела внешней разведки.
- Скворцов, вы говорите ?
- Уже восемьдесят шестой год, как Скворцов.
- Я кажется что-то слышал о вас… Если не ошибаюсь, там такая запутанная история…
- Да, она самая. Одно время журналисты наседали, а потом остыли.
- Вы смогли Абакумова вокруг пальца обвести и уйти от ареста, - стал вспоминать Владимир Сергеевич
- Да, - самодовольно улыбнулся старик и загрустил, уставившись в одну точку.
Официант уже расторопно расставлял чашки для горячего бульона и тарелки для чебуреков и беляшей.
Как вдруг старик сказал:
- Наши войска по всему фронту отступали, и наш батальон попал в окружение...
Я закрыл глаза и почувствовал в воздухе запах гари, увидел, как вдоль по горизонту, за спинами сидевших напротив меня Ирины и Ларисы, горят подбитые грузовики и танки. Перед моим взором всплыла мрачная картина поля боя. Заухал миномёт, да так оглушительно близко, что ударное эхо с болью отдалось в ушах.
...Мы то держались до последнего, а с флангов не выдержали, вот немцы круг и замкнули, - не глядя ни на кого, продолжил рассказывать старик,- радист погиб, мина шарахнула рядом и рация накрылась, осколки насквозь её прошили, связи никакой, и непонятно, то ли отступать, то ли наступать и, главное - в каком направлении?
А немцы вычислили место, где окопалась, обложившись гранатами и выставив из травы дула автоматов, оставшаяся в живых горстка солдат и били прямой наводкой. Каждый взрыв уносил жизни нескольких солдат. Ухнет выстрел и вскрик, и сердце сжимается от горькой обиды за то, что вот так бесславно погибают ребята..
Ведь на открытой поляне, куда загнали немцы остатки батальона, укрыться было негде и нечем. Лес, окружающий опушку, заняли фашисты, залегли в деревьях и кустах, подтянули пушки, к тому же был слышен гул приближающихся танков. Ждут подкрепления, чтобы окончательно сломить сопротивление - это понимал каждый солдат.
59. Неравный бой.
Вечерело.
- Если продержимся до темноты, может потом сможем выбраться, прошептал на ухо Миколе, старшине первой роты, командир второй роты капитан Семён Скворцов, а в эту минуту самый старший по званию и стало быть командир батальона.
- Еще часа три держаться надо, но это нереально, танки вот-вот, минут двадцать и доберутся до нас, тогда фрицы, прикрываясь танками, просто сметут нас, возразил Микола. - Надо прорываться.
- Легко сказать, прорываться, половину солдат положим.
- Но половину сохраним, а так все погибнем. Фашисты никого не пощадят, слишком много своих они потеряли сегодня. Только я один три танка подбил. Неудачно бросил гранату и первому танку гусеницу покорёжил; притаился в кустах и как только они выползли из люка, с трех метров уложил. Васька, убили его, мина рядом упала, свалился, как подкошенный, так он человек десять в первом же рукопашном свалил. Не ждать нам пощады.
- И все таки…
- Нет, командир, поднимай в атаку, вон к тем деревьям рванем.
Капитан встал на одно колено, осмотрел “свое войско”, затем поднялся во весь рост, поправил ремень, еще раз окинул взглядом оставшихся в живых солдат. “Человек тридцать осталось, - прикинул про себя он и громко, зычным голосом, подняв пистолет “ТТ” над головой, прокричал:
- Батальо-о-о-о-он ! В атаку, за мной ! За Родину-у-у-! За Сталина !!! Вперё-ё-ё-ё-д !
Бойцы с глазами, налитыми злобой и ненавистью, проявляя огромное нетерпение, в ожидании приказа, понимая, что это единственный выход, что останется в живых только тот, кто прорвётся, выпрямились во весь рост и рванули вперёд, в сторону спасительных деревьев, издавая дикие вопли, на ходу расстреливая последние патроны.
В ответ заголосил пулемет и до десятка немецких автоматчиков били в упор по поднявшейся в последнюю атаку небольшой горстке солдат, оставшейся от батальона. Солдаты падали на землю, вздрогнув и корчась от мучительной боли, но всё реже и реже звучали выстрелы и с немецкой стороны.
Лишенная всякой логики дерзкая атака застала врасплох немцев и они дрогнули. Несколько солдат вермахта, поддавшись панике, стали отступать лихорадочно поливая небо трассирующими выстрелами. Их настигали в одних случаях пули, в других - лопаты. Семён с двумя солдатами обошли спрятавшегося в кустах пулеметчика и стремительно выросли у него за спиной. Пулемётчик, услышав шорох листьев и треск веток, повернулся и капитан успел разглядеть исказившееся от страха лицо немца - безусого подростка. Сержант Владимир, здоровый гигант вырос над ним и несколькими ударами, ухая и кряхтя, размозжил ему голову пехотной лопатой. Применил лопату , так как патроны у него закончились едва батальон поднялся в атаку.
Бойцы радостные и возбужденные продолжали продираться сквозь лес, уже не стреляя, так как убедились, что вырвались из окружения. Они бегло осматривали друг друга, желая определить, кто выбрался из этой бойни, а кто остался лежать на поле боя. Добравшись до небольшой опушки, капитан, тяжело дыша, остановился и негромко, обращаясь, ни к кому конкретно, сказал:
- Привал, отдохнем, теперь можно.
Солдаты побросали автоматы и повалились на пушистый, не тронутый войною снег, и свалились кто где стоял, от усталости. Вдруг бойцы насторожились, из глубины чащи послышался крик, более похожий на стон. Капитан поднялся с места:
- Я разберусь, всем отдыхать.
Выбрал из кучи трофейного оружия автомат, проверил наличие патронов и, повесив его на плечо, ушел в лес. Из леса ещё раз вскрикнули, но теперь уже ясно слышался стон и капитану показался голос знакомым. Он выбрался из лощины и, принимая меры предосторожности, преодолел свободную от деревьев лужайку и снова углубился в лес. Пройдя ещё несколько метров, уже издали, заметил воина распластавшегося на снегу с автоматом в руке. Боец истекал кровью, под ним образовалась лужа крови. Капитан мысленно похвалил себя за то, что в последнее мгновение прихватил с собой санитарную сумку, и заторопился к нему. Раненный услышал шорох листьев, заерзал на месте, но не в силах был повернуть голову. Широко открытыми глазами, он смотрел в небо.
- Женя ! - узнал младшего лейтенанта Семён.
- Это я, товарищ, капитан, - прошептал Евгений Петров.
Женя, студент пятого курса МФИ имени Баумана, подающий надежды молодой ученый, в первые же дни войны отправился в военкомат и добровольно ушел на фронт, оставив дома беременную молодую супругу Катерину. Через два месяца она родила ему богатыря, его назвали Ильёй в честь Ильи Муромца. А недавно, перед боем, он получил из дома письмо с фотографией двухгодовалого малыша-крепыша.
И вот теперь, Евгений Петров, окровавленный, лежал без какой-либо надежды выжить - разрывная пуля вспорола ему живот. Кишки, и другие внутренности вывалились наружу и пульсировали в крови.
- Помогите, товарищ капитан, - прохрипел Петров пересохшими губами и упёрся взглядом в склонившегося над ним командира.
Командир, в свою очередь, в подавленном состоянии смотрел на него и искал слова утешения, но не мог найти. Его охватил нервный тик, губы вздрагивали, в горле пересохло. Он нежно гладил холодную, теряющую краски жизни щеку Петрова.
- Помогите, - прошептал Женя ещё раз, но уже тише.
А как помочь? Да будь хоть рядом даже госпиталь, вряд ли удалось бы его спасти, а теперь, тем более.
- Это всё … чем я могу… тебе помочь, - с трудом выдавил из себя командир и дрожащей рукой достал из кобуры пистолет, и приложил к виску умирающего бойца.
Младший лейтенант дёрнулся и, очевидно, вспомнив что-то хорошее, улыбнулся. Капитан ладонью прикрыл ему глаза, вытащил из-за его спины вещевой мешок, с трудом развязал промерзший узел, достал военный билет и пачку писем. Переложил в свой планшет, и, уже не оглядываясь, направился к батальону.
Солдаты слышали выстрел и с тревогой ожидали возвращения командира. Тот появился из леса, понуро опустив голову, и не глядя ни на кого, приказал старшине Котуза Миколе построить батальон.
Солдаты выстроились по росту. Старшина Котуза, чеканя шаг, подошел к капитану и, приложив руку к растопыренной ушанке, доложил:
- Товарищ капитан, батальон в составе девяти солдат, построен.
- Вольно,- скомандовал командир:
- Бойцы, - обратился он к батальону, - нам нужно идти на восток. Я не вполне уверен, что мы полностью вырвались из окружения. Вполне возможно, что нам ещё предстоят бои. Приказываю выбросить все лишнее. Будем идти ускоренным шагом, чтобы догнать наши войска.
В это время послышался треск сосновых веток и из-за деревьев показались два испуганных немецких воина, бойцы в панике похватали трофейное оружие, но увидев растерянных фрицев с поднятыми руками, опустили дула автоматов вниз. Но когда, дрожащие от холода и страха, фрицы промямлили, - T;te uns nicht, Hitler kaput, wir geben auf. (Не убивайте нас, Гитлер капут, мы сдаемся.) вновь вскинули автоматы. Началась лихорадочная пальба.
С первых же выстрелов немцы судорожно дёргаясь, повалились на землю, но солдаты продолжали, не жалея патронов, всаживать в их тела пулю за пулей. Напрасно капитан трясся от возмущения, требовал прекратить огонь. Солдаты остыли лишь после того, как Скворцов вместе со старшиной взялись отбирать оружие.
Вдруг в этот момент тело одного из фрицев в конвульсиях задергалось, это заметил ефрейтор Николай Онуфриев. Он нечленораздельно завопив, “А-а-а-а-а, мать твою-у-у-у, а-а-а-а!" выхватил финский нож и, размахивая острым лезвием, набросился на фрица. Упал на него и стал наносить удары по лицу, превращая мертвеца в багровое месиво. На этот раз никто не решался остановить солдата, подойти, образумить, пока сам Онуфриев не ужаснулся, увидев свои руки по локоть красные от фашистской крови.
Он отпрянул от фрица, сел на снег и беспомощно запричитал:
- Ну, кто вас просил, чего вы попёрли к нам, что вам от нас надо, мать вашу ?..
Командир подошёл, присел перед потерявшим голову Николаем и принялся оттирать снегом багровые руки ефрейтора:
- Коля, нам пора, давай я помогу тебе.
Подошёл и старшина, а следом и рядовой Сергей Орлов, земляк и одноклассник Николая.
- Давай Коля, вставай, идти надо, немцы совсем рядом…
Помогли ему подняться, стряхнули с его гимнастерки прилипшие куски окровавленной плоти немца...
------
Через несколько минут батальон, в составе девяти бойцов, не считая старшины и капитана, уходил на восток.