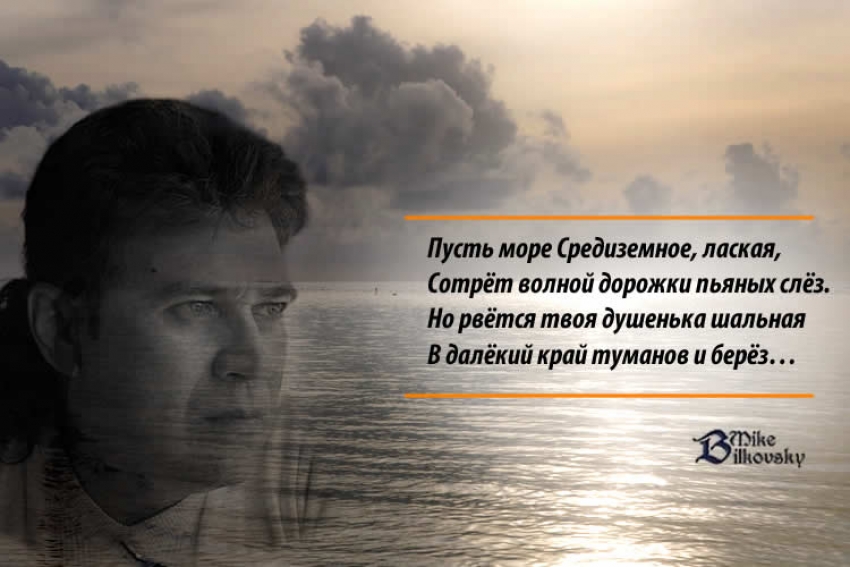Март 53-го. Лагерь на Колыме
На пороге своего барака я неожиданно встретился с воронежским поэтом Сорокиным – он мне по-заговорщицки шепнул:
– Слыхал? Усатого кондрашка хватил!
– Очередная параша (сплетня – лаг.), – с недоверием ответил я Василию Яковлевичу. – Черти его не возьмут, хотя давно пора.
– Точно говорю! – настаивал знакомый литератор. – Кто-то из вольняшек слышал, по «Голосу» или по «Волне» передали, он-то с кем-то из наших в забое и поделился.
Удивительно: зэки особого лагеря полностью изолированы от внешнего мира, а новости среди них разносятся с поразительной быстротой. Известие о внезапной болезни «отца народов» кочевало по баракам с осторожностью, шёпотом. Оно, несомненно, дойдет и до кума (уполномоченный госбезопасности – лаг.). Если окажется, что это действительно параша, кум начнёт копать, кто пустил враждебный слух, докопается, найдёт «стрелочника». За злостное «богохульство» стрелочник отхватит пять суток БУРа (барак усиленного режима, лагерный карцер.), а то и новую катушку (максимальный срок по данной статье – лаг.) по 58-10. За антисоветскую пропаганду или, как говорили тогда зэки, за длинный язык.
Кому охота оказаться крайним? Новость же о недуге лучшего друга советских детей и физкультурников ласкала уши каждого зэка. Как не поделиться ею с ближним? Вот и шушукались по углам.
Через несколько дней упорный слух превратился в реальность: «Ус копыта откинул. Сдох корифей».
Из репродуктора на фонарном столбе в прилагерном вольном посёлке полилась печальная музыка, на траурном митинге вольнонаёмных лились искренние слёзы, приуныли лагерные офицеры – все вдруг словно растерялись: «Как жить дальше? Что делать без него, мудрого и незаменимого?» Ждали указаний.
Где-то там, далеко-далеко, на большой земле или, как у нас тогда говорили, на материке, совсем в другой жизни, были бесчисленные портреты вождя в траурных рамках, приспущенные красные флаги с чёрными лентами, всенародная скорбь, слёзы, давка на Красной площади во время похорон, протяжный всесоюзный гудок из всего, что способно гудеть… Страна в глубокой печали, а зэки искренне радовались: «Наконец-то!»
Вождя снесли в Мавзолей, а в нашем лагере всё оставалось по-прежнему. Тот же высокий частокол с колючими проволочными заграждениями с двух сторон, те же прожекторы на вышках с пулемётами, те же конвоиры с автоматами, те же свирепые овчарки. Тот же рудник, при котором существовал наш лагерь особого режима (считай, каторга) с дешёвой рабочей силой. Та же секретность под шифром п/я (почтовый ящик). Тот же неумолимо жёсткий план добычи стратегического металла для страны. Тот же лозунг крупными белыми буквами по красному: «Каждый грамм металла – твой вклад в могущество любимой Родины!» (Любимой ли?) Те же номера – на спине серого бушлата, на шапке из «рыбьего» меха, на коленке мешковатых ватных штанов. И команда при выходе из лагеря на работу и возвращении в лагерь та же, неизменная как молитва: «Разобраться по пять! Взяться под руки! В пути следования не растягиваться, не разговаривать, из ряда в ряд не переходить! Шаг влево, шаг вправо – считается побег, конвой применяет оружие без предупреждения».
И всё же что-то изменилось. И не только заметно потеплело в природе (в том марте у Оймякона ртутный столбик не опускался ниже двадцати пяти градусов мороза), и кончилась полярная ночь. В тоне начальника конвоя стала мягче угрожающая нотка: «Стрелять буду, не задумываясь». Потеплело в измученных душах зэков, появились проблески надежды на перемены к лучшему, хотя овчарки рычали и набрасывались на задний ряд колонны так же свирепо, как и прежде.
– Ничего, потерпим. Будет и на нашей улице праздник!
Кое-что изменилось и в лагерной столовой. До этого годами в ней ежедневно было одно и то же: липкая пайка глиноподобного хлеба, мутная баланда с селёдочными костями, жидкая овсяная каша на воде. Но и тех не вдоволь. Выйдешь из-за мокрого, грязного стола – вроде и не ел. А тут вдруг откуда ни возьмись – пшено, гречка, перловка. Не ежедневно, конечно, изредка, но и то хорошо. И вместо тощей, обезжиренной с ржавым налётом селёдки – свежее мясо. Мясо! Моржатина, мало её – и всё же…
Лагерь захлестнули оживлённые разговоры об амнистии и новом уголовном кодексе. Амнистия действительно вскоре была объявлена, но в нашем лагере, плотно населённом сплошь политическими зэками по 58-й статье, или, как обычно их называли, врагами народа или фашистами, она никого не коснулась.
И всё довольно быстро вернулось к прежнему: овсяная каша и ржавая селёдка – как год, два, пять и много лет тому назад. И удары ломом по рельсу: подъём, развод, поверка, отбой. И ежедневный изнуряющий труд. И тупой, беспощадный конвой. И неизменная «молитва»: «Шаг вправо, шаг влево…»
Смерть вождя на судьбу «врагов народа» не повлияла. Дело оказалось не столько в тиране, сколько в режиме, им созданном и укреплённом его сильной волей, безграничной жестокостью и лисьей хитростью. В режиме, круто замешанном на всеобщем доносительстве, недоверии и страхе.
…Промелькнуло короткое оймяконское лето. В начале сентября начались новые снегопады, накрыв в распадках и на северных склонах сопок старый снег – не дотаявший от скудного тепла, серый, ноздреватый. С каждым днём крепчали морозы. Вновь опустилась полярная ночь.
Появившаяся было робкая надежда на свободу стала таять, и «враги народа» продолжали тянуть свои «катушки». Система, слегка покачнувшаяся от внезапно постигшего ее удара, быстро очухалась и не собиралась давать слабину.
Всё рассказанное мною выше приведено в качестве фона, на котором и произошло незначительное и не очень яркое событие в жизни нашего барака – как внутренний протест против мрачного, беспросветного существования.
– А не устроить ли нам новогоднюю ёлку? – предложил я товарищам по нарам. – Не люди мы что ли? Хоть какое-то разнообразие будет. Жизнь продолжается. А надежда умирает последней.
– Ну, ты, студент, даешь! – покрутили зэки пальцем у виска. – Ты в своём уме? Где её взять, ёлку-то? И кто разрешит?
И всё же моё предложение обсудили – с разногласиями и сомнениями. И решили: встретим Новый год с ёлкой. Будет в нашем бараке праздник! Всем чертям назло!
– Ты вот что, студент, твой замысел – тебе и карты в руки. Действуй! Говори, что надо, сделаем, поможем.
Ели действительно не растут ни на территории рудника, ни в жилой зоне. В лагере – ни кустика, ни деревца. Зато в каменистые, схваченные вечной мерзлотой склоны сопок, среди которых находится рудник, могучей силой выживания вцепились отдельные очаги стланика – низкорослого стелющегося хвойного кустарника. Если набрать из-под снега его веток, можно приладить их к жёсткому стволу, закрепить наподобие дерева – вот и ёлка. Главное – хвоя! Каждый житель барака принёс по одной веточке под бушлатом, и набралось их достаточно.
При шмоне (обыске) перед входом в зону надзиратели было заартачились:
– Не положено!
– Гражданин начальник, почему не положено? Не взрывчатка ведь! Новый год скоро. В бараке хвоей запахнет. Какой вред? Вспомните своё детство, гражданин начальник, ёлка, праздник. А?
Гражданин начальник, молодой солдат внутренних войск, вспомнил, смягчился:
– Ладно, проходи!
– Спасибо, гражданин начальник, – с показной покорностью и притворным почтением согнулся зэк с веточкой стланика. – Вы – человек!
«Человек» – это слово в лагере означало весьма положительный отзыв, одобрение, высшую оценку личности.
От такой похвалы надзиратель совсем растаял:
– Чего уж, проходи, давай! Служба у меня такая… Собачья.
У лагерного лепилы (фельдшера – лаг.), моего ровесника, по чужой, злой воле недоучившегося медика из Белоруссии, Славки Пашкевича выклянчил я немного ваты.
Вначале Славка сопротивлялся:
– Дефицит. Надёргай из старого бушлата – вот тебе и вата.
А когда он узнал зачем, даже возмутился:
– Что ж ты сразу не сказал? Ёлка – это интересно. Приду, посмотрю.
У художника КВЧ (культурно-воспитательной части) Володи Ли нашлось немного засохшей разноцветной гуаши. Дал с готовностью:
– Для ёлки? Святое дело! Сойдёт, только размочи.
Там же, в КВЧ, удалось приобрести старый номер газеты «Комсомольская правда».
Электрику, поволжскому немцу Густаву Генингу, под каким-то предлогом удалось пронести плоский индивидуальный аккумулятор и гирлянду, спаянную из десятка лампочек, какие применялись горняками для освещения при подземных работах.
Тонкую медную проволоку из многожильного кабеля, обмотанную вокруг голени (валенки при шмоне не снимали), пронёс в зону другой электрик, латыш Эрик Вангравс. Будет чем прикрепить ветки!
Предновогодняя подготовка шла вечерами в короткое до отбоя время.
Из «Комсомольской правды» нарезали узких полосок, покрасили их гуашью в разные цвета, изготовили бумажные цепи. Для склеивания звеньев применили клейстер, полученный из овсяной каши, протёртой через марлю (кусок марли – тоже от лепилы Славки). В лишнем черпаке каши повар не отказал – и ему стало интересно:
– Ёлка для «фашистов»? Неслыханно! Невероятно!
Из серой упаковочной бумаги от взрывчатки литовец Гядиминас Адомайтис вырезал флажки, нарисовал на них крупные разноцветные буквы и цифры, по одной на каждом, нанизал флажки на нитки, и получилось поздравление: «С Новым, 1954 годом!»
Прикрепили ветки. Установили деревце на столе.
– Всё! Можно наряжать.
Каждому обитателю барака хотелось повесить что-то от себя.
Татарин Мабурадзян Садыков (его у нас Борей звали) вырезал из картона сказочную рыбку. Фронтовик, бывший танкист Леонид Золотько (с дружеским прозвищем Большой хохол) завернул кусок своей пайки в клочок крашеной газеты: с виду – большая конфета. Валера Бережков (схлопотавший «катушку» за веру: по своим религиозным убеждениям, верный христианской заповеди «не убий», он отказался взять в руки оружие) из деревянных планочек смастерил крестик, облицевал его станиолем от конденсатора (нашлась такая блестящая фольга в мастерской рудника). Трижды перекрестившись, Валера смиренно промолвил:
– К Рождеству. Христос терпел и нам велел.
Не остались в стороне и школьники из Западной Украины – Богдан Караев, Миша Ястребовский, Максим Старощук. Что-то, уже не помню, что, изготовили ленинградцы Борис Шалыгин и Виталий Долгошев. Участвовали в украшении ёлки также Игорь Имшенецкий (его отец – известный микробиолог) и Саша Тетяев (сын профессора Ленинградского горного института Михаила Михайловича Тетяева).
…Повесили самоделки, набросили на колючие ветки разноцветные бумажные цепи и пушистые комки ваты, закрепили гирлянду.
Огрубевшие, уставшие от постоянного голода, вечного холода, тяжелой работы и многолетней неволи зэки охотно возились у ёлки, радуясь, словно дети.
– ёлочка, зажгись!
Латыш Эрик замкнул контакт, и ёлка тускло осветилась маленькими лампочками.
«В лесу родилась ёлочка…»
Зэки глухо чокнулись закопчёнными кружками с несколькими глотками чифиря – крепкой заварки чая, припасённого к этому торжественному случаю, из чьей-то давней посылки.
– Ну, будем! Доживём и до шампанского!
За окном, от многолюдного дыхания и отсыревшей одежды покрывшимся толстым наплывом льда, – минус 50, прожекторы на вышках еле пробивают молочную плотность морозного тумана. А в бараке необычно тепло, весело гудит от сильной тяги печка из бензиновой бочки, аж зарумянились от жара её бока. Между скрипучими нарами потянуло свежим лесным духом. В унылом жилище повеяло маленьким праздником. Зэки мысленно перенеслись домой, каждый – в свой, к своим жёнам, девушкам, детям, старикам. Ждут ли их дома? А, может, уже и не ждут… Устали ждать. Нахлынули воспоминания.
Бедная лагерная ёлка поддержала в зэках желание жить, вновь пробудила надежду. И надежда сбылась.
Не сразу, нехотя, тяжело, медленно, с волокитой и множеством уточнений и согласований, с натужным скрипом, словно с палками в колёсах, начались пересмотр дел «врагов народа» и их реабилитация.
Не знаю, по алфавиту ли, по возрасту ли, с учётом ли ранений и наград, полученных мною в боях, но я почти через два года (через два года!) после похорон «отца» оказался одним из первых, которым суждено было дожить до освобождения.
Я невольно сравнил: чтобы отправить меня на многие годы за колючую проволоку, на арест, выколачивание показаний и неправедный суд проворным исполнителям потребовалось немногим более месяца. А чтобы освободить – два года!
По пословице «В тюрьму – широкие ворота, из тюрьмы – узенькая калитка».
…Сколько лет прошло с той поры! Миллионы нарядных ёлок зажглись за эти годы – на площадях городов, в школах, детских садах, дворцах, общежитиях, уютных квартирах… Сколько детей выросло (уже и состариться успели!), сколько внуков стало взрослыми! Хороводы вокруг новогодних ёлок весело водят уже правнуки тех «врагов народа» – дети, не знающие даже зловещего слова ГУЛАГ.
Всё осталось в далёком прошлом.
И мне, тогдашнему молодому человеку, а ныне тихо доживающему свой век поседевшему деду пора бы забыть те далекие годы и не терзать уставшую память больными воспоминаниями.
А я помню. По именам помню соседей по нарам (к сожалению, никого из них давно уже нет в живых: жертвы ГУЛАГа не стали долгожителями). Помню всех, с кем единственный раз устраивал ту скромную новогоднюю ёлку.
Помню. Потому что там остался лучший отрезок моей жизни. Потому что и в той беспросветности были у меня редкие встречи и мгновения, от которых ненадолго становилось тепло на душе. Одно из воспоминаний – новогодняя ёлка из стланика в мрачном бараке за заиндевевшей колючей проволокой. Среди диких сопок заснеженного, морозного Оймякона. На высоте около двух тысяч метров. Более шестидесяти лет тому назад.
Алексей Гречук