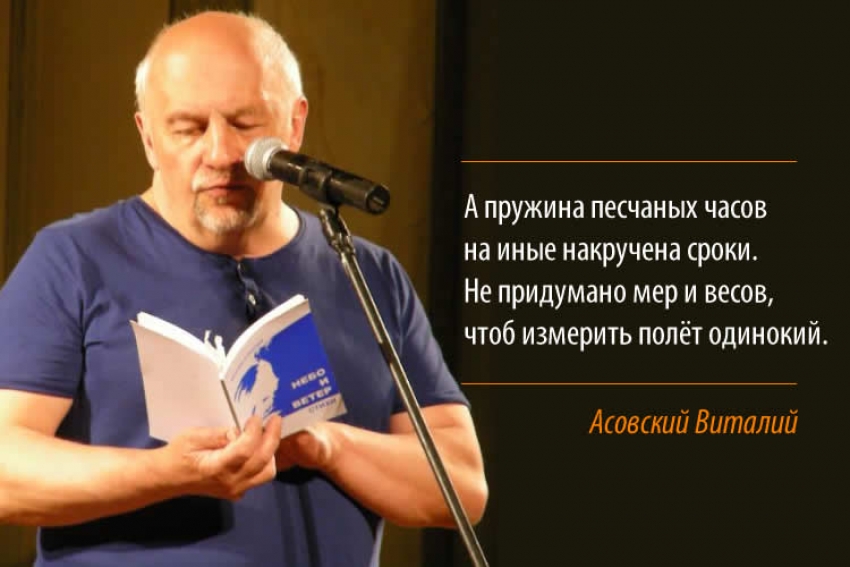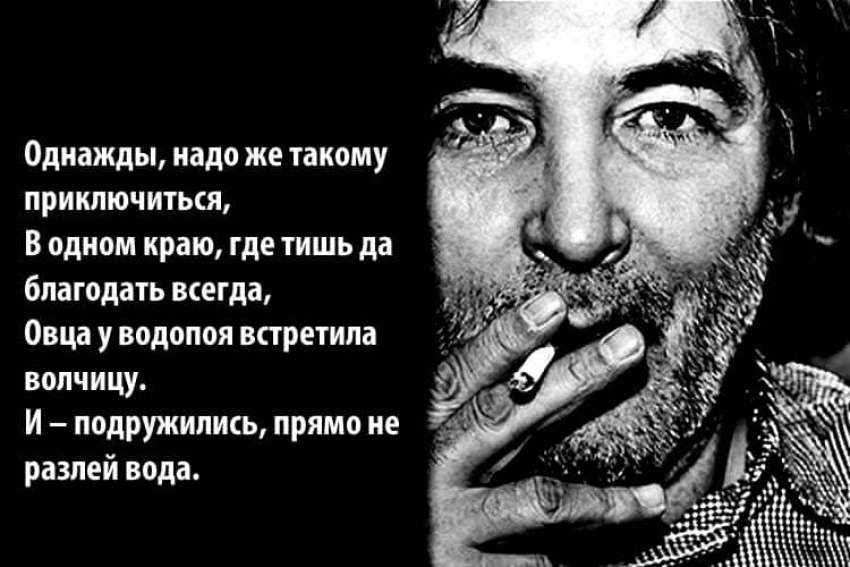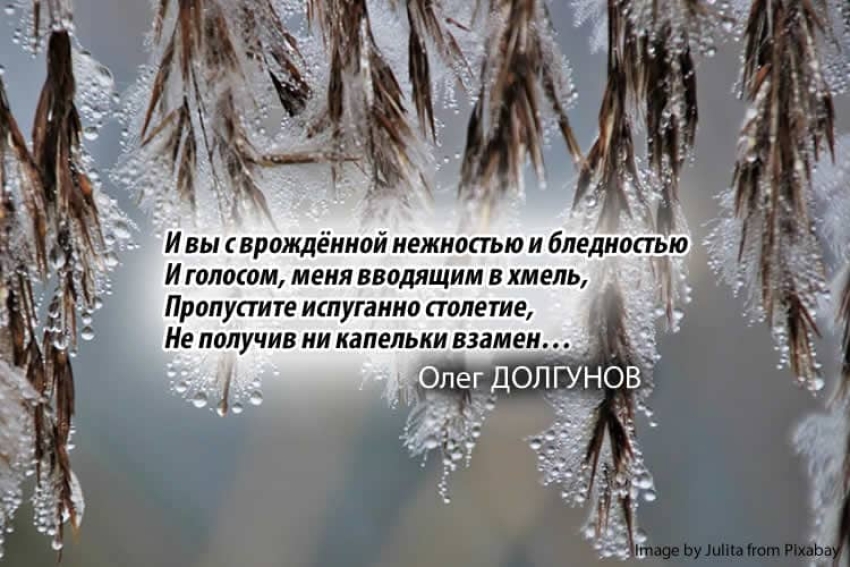Думаю, эта строка может быть эпиграфом к его стихам.
«Мы – яблоко стыда, надкушенное Евой,
посланий грозовые письмена».
* * *
Снова в нас вернулись птицы
голос взять в тиши округ.
Солнце нежит медуницы
и полощет горло звук.
В высоте мой ангел реет
над следами афродит,
спелым морем обогреет,
согрешившего простит.
В небе лето мает в зеве
плод румяный, налитой,
как беременная Ева,
бродит тучей золотой.
***
Зреет верба. Ветер смольный,
токи Чёрной Калитвы.
Отчего же мне так больно
строить город на крови?
То ли ангел мой тревожит,
то ли тёмная река,
то ли зверем сердце гложет
негасимая тоска.
Нераскрывшиеся почки,
не родившаяся дочь,
и с оборванной цепочки
крестик, падающий в ночь.
Мир откроется младенцем,
освятившим свой вертеп,
огневым новокрещенцем
путь преламывать, как хлеб.
* * *
Так дорог мне в суровом храме
хранитель родовых ключей –
приворожёнными стихами
разворошённый книгочей.
Вот он идёт по коридорам –
и открываются в пыли
листы, прошитые простором,
горючие века Земли.
Единокровными ночами
ему услышать довелось:
во мне кузнечиком печальным
стрекочет световая ось.
ИЛИЯ
Мой верный царь, я слышу твой завет.
Уже сегодня я понятен птицам.
Ещё бы десять лет – и я поднял бы свет
луча с босой рассветной половицы.
Мой грозный царь, меня ты торопил,
ты взял меня живым на небо песней.
Ещё бы двадцать лет – и я бы понял мир
огня твоей механики небесной.
Прости, я медлил, примеряя день,
вживаясь в плески солнечных видений.
Ещё бы тридцать лет – я вырастил бы тень
тому, кто не отбрасывает тени.
Мой царь, я грешников щадить просил
столбы огня, неугасимый пламень.
Ещё бы сорок лет – и мне б хватило сил
поднять Земли краеугольный камень.
АПОСТОЛЫ
Зелёный звукоряд, букварь листвы
Раскрылись, как восторг, земными алтарями.
И новый дар благословят волхвы:
Наш верный царь грядёт и дышит за дверями.
Как в нетях не пропасть и Бога не прогневать?
Природа выше нас и глубже сна.
Мы – яблоко стыда, надкушенное Евой,
посланий грозовые письмена.
Мы прощены горением псалма.
Но если угодить предсказанному снами –
нас ветряки крестов сведут с ума.
Так ворон видит смерть, идущую за нами.
Мы – исцеление расслабленного света.
Но тот, кто будет признан чудаком,
добавит свету грань и буквицу Завета,
нам по волнам являясь босиком.
И нам всего на свете тяжелей
восстание огней Отеческого гнева.
Нам – веру напоить, как, влив елей,
разжечь лампаду нерадивой девы.
Мы – древо партитур, наитий невесомых,
тягучего огня, чутьё летяг.
Мы – корневой побег в родильне чернозёма,
и осень – наш могучий, дымный стяг.
ВИОЛОНЧЕЛЬ
Что знало сердце и провидел слух,
когда, минуя мастера, в лесу
протягивали спиленное древо?
Он слышал тайных колокольцев звон
и голос флейты, будущих чакон
гудение шмелиного распева.
И старый мастер всё, чем дорожил,
отдал подруге вдохновенных жил,
закрученных смычком на канифоли.
Он слушал эхо в ней и времена,
как дышит светосильная струна,
гудя в её древесных альвеолах,
учась у ней пронзительным туше,
как звуку, жизни быть настороже,
когда она тепла, как в ночь концерта,
в пыльце касаний… Вспомни этот зал,
скрипичный лес, бунтующий вокал
и профиль мастера в потоке света.
Была ты Золушкой, на бал спеша…
Твой пульс горяч, и тянется душа
кружиться в музыке вихреобразной,
отдавшись струнному витийству… Ах,
ты, милая, запуталась в ветвях
родства неумолимому соблазну!
В софитном жаре, в пении шмелей
на поле клевера, ты мне милей
касаниями влажных флажолетов.
На ушко грифа ей шепнуть «люблю» –
и опьянеть во вьющемся хмелю
её одушевлённого ответа.
Мы с ней вкушаем от медовых сот…
Спускаясь вниз, смычок достиг высот
октав невыразимого блаженства!
Скрипичный лес, дыханье духовых…
На пике волшебства наш звук затих,
и нам непостижимо совершенство
великих пауз, освятивших тьму.
Мы музыкой обещаны тому,
кто слышит нас с тобой, кем мы хранимы,
и кто благословляет стихший глас,
молчанием соединяя нас,
как строки тишиной соединимы.
* * *
Я был выпит живыми кореньями ив и аира,
и в растительном воздухе голосом вновь прорасту.
Я совьюсь письменами и песнями, стану задирой,
и меня птичьи стаи внесут на людской пересуд.
Что пронзительней правды и совестней жертвы бескровной?
Бьёт копытами тёплая кровь… Оперясь поутру,
мой Пегас, в закипающем времени стали мы ровней,
ты – мой загнанный голос, трепещущий на ветру.
Это тёмное небо вины, это дар до рожденья,
это реющий пепел утрат, неизвестный завет.
Но под утро придёт ясновиденье, как сновиденье,
И, как дивная брага, прольётся ворованный свет.
ПРЕЛЮДИЯ ВОДЫ
Какая роскошь в нищенском селенье —
Волосяная музыка воды!
О. Мандельштам
Так хороши младенческие слоги,
лепечущей воды живая нить!
У родника, кремнистого порога
с утра мы воду учим говорить.
Запретными плодами звуки зрели,
и, с ними в тайном состоя родстве,
я знаю: птицы замышляли трели
в высоких травах, в реющей листве.
Ты знаешь: мы с водой – одной породы,
и водят нас земля и небеса,
везде вокруг бурлят водовороты,
свирель воды свивает голоса.
Ты помнишь, как влажнели, объяснявшись
с озёрной гладью по хмельной весне?
Мы судьбами меняемся, обнявшись
ночной любовью в изумрудном сне.
Мы любим всё, что никогда не поздно.
Майтрея, мы воде преподаём!
Мы молоды и живы, мы – несносны,
когда мы просыпаемся вдвоём.
Мы знаем всё, и нас не озаботят
насущный хлеб, грядущая беда.
В нас зреет небо, винной гроздью бродит
наш терпкий стих, не знающий стыда.
В беспамятстве мелеющему роду,
как боль, напомнит грубая молва
эпическое древо Гесиода,
труды и дни, речные жернова.
***
Как жребий правоты, я жизнью брошен
во тьму на неразменном пустыре.
Но вновь смычком я к тишине приложен,
вокруг всё приготовилось к игре.
Тишь позовёт кузнечиком печальным.
Новорождённым воздухом пьяна,
разбудит воды немоты начальной
сквозь сердце восходящая луна.
Я оживу струной виолончели,
зелёной фугой реющих ветров,
летучими косичками качелей,
алеющими солнцами дворов.
В горячий полдень молока и хлеба,
играя на задворках мастерских,
ты первых ласточек бросаешь в небо
и бездарю диктуешь первый стих.
Соединимся в таинстве наивном,
где в голоде великих перемен
истаявшее тело пахнет ливнем,
и поднимается трава с колен.
Почувствуешь: в родимой несвободе
мы судьбами навеки сплетены –
одной рукой развязываешь воду,
другой рукой освобождаешь сны.
Мне больно, милая, когда ты слепо
живёшь во мне, не разбирая черт:
одной рукой развязываешь небо,
другой рукой притягиваешь смерть.
Поводья взяв, мы силами эфира,
из немощи своей, вставая в рост, –
все жилы – на разрыв! – мы скрепы мира
рванём, как Аничков чугунный мост!
Вся наша жизнь – в полночном конском всхрапе…
Кипит железо в вороном котле!
Пленённая, во рту с кровавым кляпом,
за нами смерть болтается в седле.
ЗАРАТУСТРА
Что произносится громом и пишется молнией?
Кто на Земле времена замыкает кольцом?
Кто на раскол, языками гремя колокольными,
бурную клинопись тьмы высекает резцом?
Так говорил Заратустра губами заката –
всадник, зовущий свой пепел последней зари:
вот – одиночество, взгляд – глубже сердца аббата.
Что же ты медлишь, огонь? Говори, говори!
Слово пророческих рун полыхнёт колесницей.
Своре сорвавшихся снов не догнать беглеца!
Но на исходе времён отразит плащаница
столп соляной оглянувшегося Отца.
***
Сергей Пичугин родился на Кубани, с 1974 года живёт в Риге. Окончил институт инженеров гражданской авиации. Публиковался в журналах «Даугава», «Родник», «Рижский альманах», «Провинциальный альманах», «Настоящее время», «Молодая гвардия», «Второй Петербург», поэтических антологиях «Освобождённый Улисс», «Современная русская поэзия Латвии», «Северная Аврора», «Письмена», альманахе «Паровозъ» и других. Автор нескольких поэтических сборников. Занимается изданием древнерусской певческой литературы и записями древнерусского знаменного распeва. Член Союза российских писателей, учредитель Балтийской гильдии поэтов. Лауреат нескольких литературных премий.