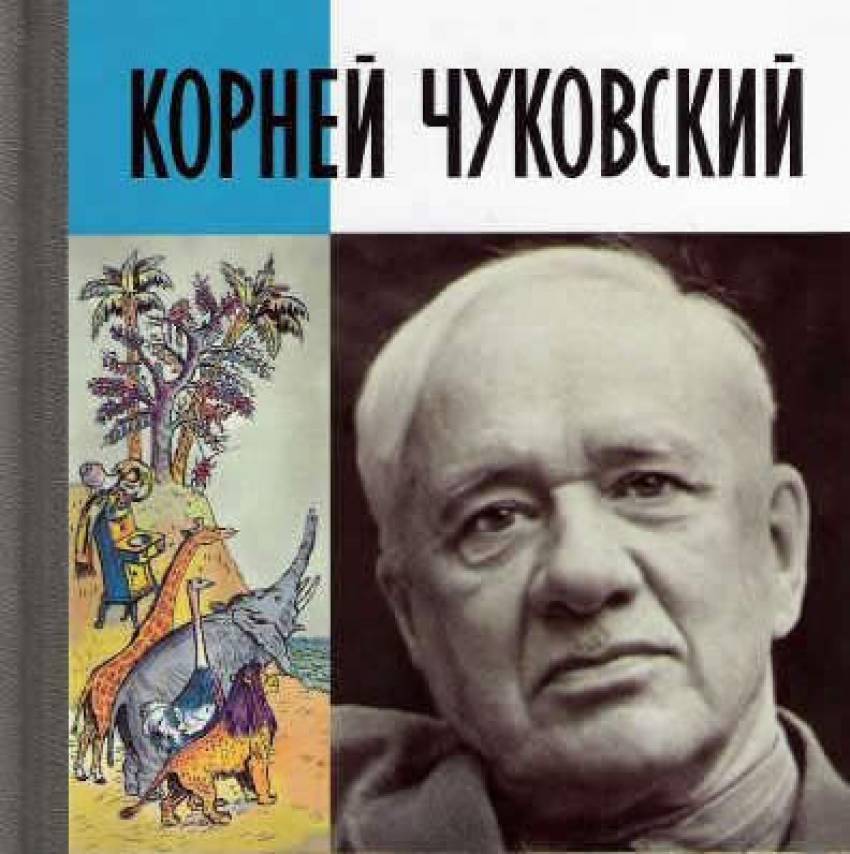В народной молве ее устами говорили классики мировой литературы и философы древности. Раневская относилась к этому со свойственным ей чувством юмора: «Мне незаслуженно приписывают заимствования из таких авторов, как Марк Твен, Бернард Шоу… и даже Эзоп и Аристотель. Мне это, конечно, лестно». Мифы о себе она вообще воспринимала вполне благодушно. А порой даже участвовала в их создании.
«Мой отец был небогатым нефтепромышленником»
Например, совсем по-женски Раневская чуть-чуть подправила возраст. Потом, правда, вспоминая свою подругу Любовь Орлову, которая «сбросила» с десяток лет, долго ругала себя за излишнюю скромность: «Подсчитала, что два года я все же провела на курортах, а курорты, как говорят, не в счет, так и появилась в моем паспорте новая дата рождения».
По версии официальных источников, она появилась на свет в 1896 году в Таганроге. В семье «небогатого нефтепромышленника». Так во всяком случае показалось Раневской. На самом деле ее отец к добыче нефти никакого отношения не имел и был человеком весьма состоятельным. Гирш Фельдман владел фабрикой по производству красок, парой домов, которые сдавал внаем, складом, магазином и собственным пароходом под названием «Святой Николай». На этом пароходе сразу после революции, в январе 1918-го, с женой и сыном он и отправился к чужим берегам, спасаясь от власти большевиков. Его старшая дочь Изабелла к тому времени жила с мужем в Париже, а средняя — Фаина — безуспешно штурмовала театральные подмостки то ли в Керчи, то ли в Феодосии. Как отыскать «неприкаянную актрису», толком никто не знал, поэтому в румынскую Констанцу семья решила отправиться без нее.
Фаину, похоже, такое стечение обстоятельств ничуть не огорчило. «Не думай, что я, как моя тезка Фанни Каплан, хотела участвовать в революции, Февральской или Октябрьской, — много позже признавалась она своей подруге Елизавете Метельской. — Но зато я точно знала, что не могу без России, без русского театра. Эти слова могу произнести вслух даже на съезде коммунистов, только в партию их никогда не вступлю». Свое слово Раневская сдержала.
«Подарок» для лучших театров Москвы
В строгой религиозной еврейской семье (Гирш Фельдман был старостой городской синагоги) к лицедейству относились скверно. «Желание кривляться способностями не считалось, скорее наоборот — почти позором». Выбор дочери не смогла принять даже ее мать — заядлая театралка, привившая Фаине любовь к искусству. Отец же от решения Фанни уйти в артистки был просто вне себя от ярости. Он грозился лишить «бездарную лентяйку» содержания, если та не прекратит заниматься «блажью» и «дурью». Но «упрямая, как телеграфный столб» наследница продолжала стоять на своем, хотя хорошо понимала, что шансов попасть на большую сцену у нее почти нет. «Рыжеволосая дылда, загребающая ногами, сутулая, заикающаяся и падающая в обморок, невесть с чего должна была стать подарком для лучших театров Москвы». Она и не стала. В Москве, куда молодая провинциалка приехала в 1914 году, Фаину не взяли ни в одну из творческих школ как «неспособную» — некрасивую и неталантливую. С завидным упорством она продолжала обивать пороги театров, жила впроголодь, ютилась в маленькой комнатушке и брала редкие частные уроки по актерскому мастерству. На регулярные занятия денег, которые тайком от главы семейства высылала мать, не хватало.
Удача улыбнулась после полутора лет скитаний. В подмосковной Малаховке, где на сезон открывался летний театр, по личной просьбе балерины Екатерины Гельцер Фаине разрешили постоять на сцене в массовке рядом с главным героем. Несмотря на ничтожность своей крошечной роли без слов, дебютантка расценила ее почти как триумф. Теперь-то она наверняка будет актрисой — «лучшей, выдающейся, хорошо бы великой!». И вскоре, подписав свой первый контракт и позаимствовав псевдоним у чеховской героини из «Вишневого сада», отправилась с передвижной труппой в Крым.
«И куда я, дура, собралась? На что надеялась?»
Театр Лавровской, в который теперь уже Фаину Раневскую, несмотря на фактуру, приняли на роли героини-кокет за 35 рублей в месяц «со своим гардеробом», большой популярности у зрителей не снискал и спустя несколько месяцев был расформирован. Фаину, впрочем, это событие расстроило мало. Из-за слишком частых неудач, которые потом актриса будет вспоминать со свойственной ей иронией, она уже глубоко сомневалась в своем блестящем будущем: «Я играю в пьесе Сумбатова прелестницу, соблазняющую юного красавца . Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно-нежным голосом: "Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея…" После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стеная, угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены». Но, к счастью, передумала. Как будто знала, что в ее нескладной актерской судьбе уже близится время перемен.
«Только ей я обязана тем, что стала актрисой»
Впервые великолепную Павлу Вульф, которую в театральных кругах называли «второй Комиссаржевской», Раневская увидела на сцене еще дома, в Таганроге. А теперь, спустя семь лет, вновь пришла на ее спектакль в Ростове-на-Дону, куда перебралась после неудачного крымского вояжа, устроившись на работу в цирковую массовку. Набравшись смелости, Раневская напросилась к своему кумиру в ученицы.
И Вульф не смогла ей отказать. «Прослушав меня и видя мое волнение, Павла Леонтьевна сказала: "Мне думается, вы способная, я буду с вами заниматься"», — вспоминала Раневская. Вульф принялась скрупулезно объяснять своей подопечной азы профессионального мастерства.
Нежная, трепетная дружба двух женщин продлится тридцать лет. Они вместе переживут ужасы Гражданской войны в Крыму, преодолеют голод и укроются от эпидемии тифа. В течение нескольких лет будут на пару кочевать по провинциальным театрам от Архангельска до Баку, а вернувшись в Москву, поселятся в одной квартире, где до 1948 года проживут втроем: Раневская, Павла Леонтьевна и ее дочь Ирина. По сути с Вульфами Раневская вновь обретет семью. И с этим никогда не сможет смириться ее родная сестра, которая после смерти мужа-француза переберется обратно в СССР. «Если человеку приходится выбирать, то он выбирает то, что ему больше по душе. Родители для сестры были худшим злом, нежели революция… Сестра сама оборвала нити, связывавшие ее со всеми нами, — негодовала Белла. — Она настолько ценила свободу, возможность всегда поступать по своему усмотрению, что предпочла этой свободе все — дом, благополучие, спокойную жизнь».
«У меня не плохой характер, он просто есть»
Если в чем и была права Белла Аллен-Фельдман, так это в том, что ее младшая сестра действительно имела смелость поступать исключительно так, как считала нужным. И почти всегда в ущерб собственным интересам. Честолюбивая и требовательная Раневская не терпела проходных постановок, идеологических клише, «балаганного лицедейства» и неуважения к себе. И молчать не собиралась. Особенно ярко безудержный темперамент актрисы проявлялся в ее отношениях с режиссерами.
Одного она во всеуслышание назвала «Прокрустом от искусства», другому сообщила, что он не стоит даже плевка Станиславского, у третьего диагностировала «творческий климакс». Великому Сергею Эйзенштейну, мастеру с мировым именем, велела передать, что «лучше станет продавать кожу со своей ж…, чем сниматься в его паршивом кино». (Это емкое выражение Раневская привезла из Таганрога, подслушав у приказчика рыбного магазина.) Вина Эйзенштейна состояла в том, что, приступая к съемкам «Ивана Грозного», он, как ни пытался, не смог утвердить актрису на роль Ефросиньи Старицкой у партийного руководства. Мэтр, к слову, в долгу не остался. Из Алма-Аты он отбил Фаине Георгиевне телеграмму с единственным вопросом: «Как идет торговля?» Режиссеру театра Моссовета Юрию Завадскому, который во время репетиции прокричал из зала: «Фаина, вы своими выходками сожрали весь мой замысел!», она спокойно ответила: «То-то у меня чувство, как будто наелась г…» «Вон из театра!», — воскликнул обескураженный Завадский. «Вон из искусства!», — отрезала Раневская.
Иногда, покидая очередное место службы, Фаина Георгиевна так хлопала дверью, что грохот долетал до полос советской прессы. Об одном случае она однажды поведала сестре: «Я уходила из Театра армии с та-а-аким скандалом! То, что я устраивала дома, когда папа не пускал меня в актрисы, не шло ни в какое сравнение. Меня даже в газете пропечатали… Я тебе потом покажу эту газетку, если случайно ею не подтерлась. Меня обозвали дезорганизатором театрального производства».
На съемках «Золушки», чтобы «добавить» в образ мачехи вздорности и высокомерия,
Раневской приходилось подтягивать нос и запихивать за щеки кусочки ваты.
«Жизнь моя… Прожила около, все не удавалось. Как рыжий у ковра»
Горячий нрав Фаины Георгиевны поостыл только с годами. В своем последнем интервью за пять лет до смерти она уже без шуток признавалась: «Я могла бы сделать гораздо больше и в театре, и в кино, если бы мне предоставили такую возможность. Не любили меня режиссеры. За что? Наверное, за инициативу. Я лезла со своими предложениями, решала сама все задачи. Не надо было, нет… Лучше могла бы быть судьба! У меня ничего не сыграно фактически. Все осталось при мне, что я хотела бы еще сказать».
Парадоксально, но при всенародной любви, обрушившейся на Раневскую сразу же после выхода фильма «Подкидыш» (1939) с ее коронной фразой «Муля, не нервируй меня!», благосклонном отношении советских руководителей, обилии званий и наград, которые Фаина Георгиевна именовала не иначе как «похоронные принадлежности», в творческой биографии актрисы ничтожно мало настоящих ролей. А ее блестящий драматический талант оказался надежно укрыт образами гротескных комедийных персонажей второго плана. С годами места на сцене для Раневской становилось все меньше, как и времени на поиски «святого искусства», встречи с которым актриса упрямо добивалась всю жизнь.
В 1983-м Фаина Георгиевна навсегда ушла из театра — тихо, без проводов, цветов и речей. И все же долгожданное знакомство со «святым искусством» состоялось. На вопрос журналиста: «Где?» , выдержав паузу, Фаина Раневская ответила в обычной для себя манере: «В Третьяковской галерее».
Перлы Раневской
- Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью.
- Можете думать и говорить обо мне, что вашей душе угодно. Вряд ли найдется хоть одна кошка, которую будет интересовать мнение мышей.
- Самое ужасное в молодежи — что мы уже не принадлежим к ней и не можем делать все эти глупости.
- Сказка — это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль — это когда наоборот.
- Если больной очень хочет жить — врачи бессильны.
- Когда я умру, похороните меня и на памятнике напишите: «Умерла от отвращения».
Байки про Раневскую
- В переполненном автобусе, везущем артистов после спектакля, вдруг раздался неприличный звук. Раневская громким шепотом своему соседу: «Чувствуете, голубчик? У кого-то открылось второе дыхание!»
- Однажды Раневская после спектакля сидела в своей гримерке совершенно голая (собралась переодеваться) и курила. В этот момент дверь распахнулась, и в гримерку хотел войти директор театра. Актриса невозмутимо посмотрела на него и пробасила: «Дорогой мой, вас не шокирует, что я курю?»
- Как-то раз Раневская поскользнулась на улице и упала. Навстречу ей шел незнакомый мужчина. «Поднимите меня, — попросила она. — Народные артистки на дороге не валяются!»
- Одна из сотрудниц Радиокомитета постоянно переживала драмы из-за романа с коллегой, которого звали Симой: то она рыдала из-за их ссоры, то он ее бросал, то она делала от него аборт. Раневская называла ее «жертва ХераСимы».
- Актриса с сопровождающими и огромным багажом приезжает на вокзал. «Жалко, что мы не захватили пианино», — говорит Фаина Георгиевна. «Неостроумно», — замечает кто-то из провожающих. «Действительно неостроумно, — вздыхает Раневская. — Дело в том, что на пианино я оставила все билеты».
Любовь первая, она же последняя
О личной жизни актрисы до сих пор известно крайне мало. Ей приписывали романы с актером Василием Меркурьевым и маршалом Федором Толбухиным. Сама Раневская о своих отношениях с сильным полом предпочитала не распространяться. Проговорилась лишь о первой любви, которая внезапно настигла ее в возрасте 19 лет. История получилась смешной и нелепой. «Ходила за ним как тень, пялилась, словом, влюбилась как кошка. Он как бы и не замечал ничего, но вот как-то раз неожиданно подходит ко мне и говорит:
— Дорогая, вы ведь неподалеку комнатку снимаете? Верно?
— Верно…
— Ждите меня сегодня вечером, часиков около семи, я к вам загляну...
Я, конечно, немедленно отпросилась домой, накупила вина и еды, принарядилась, напудрилась, сижу и жду… Наконец, часов около десяти является пьяный, растрепанный, в обнимку с какой-то крашеной стервой.
— Дорогая, — говорит, — погуляйте где-нибудь часок…»