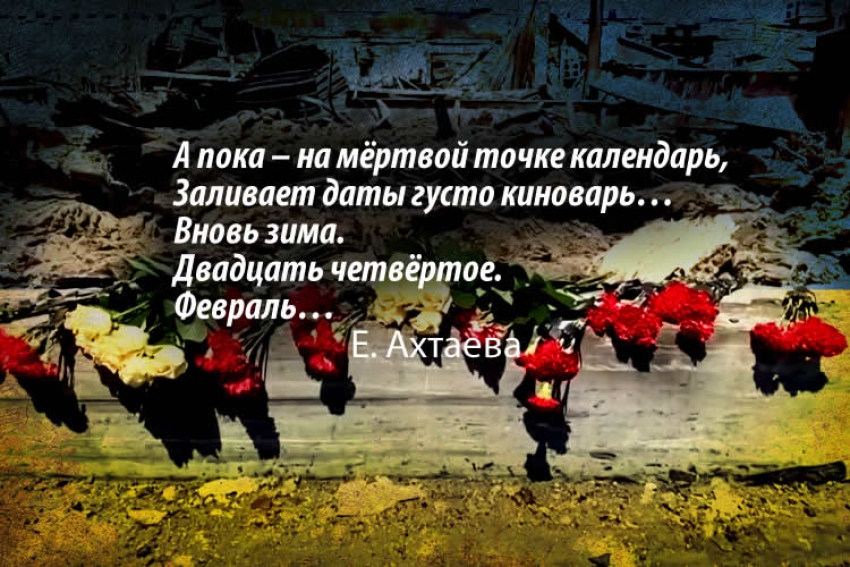Пьеса Ю. Щуцкого «Свеча горела» победила в конкурсе на лучшую «Музейную пьесу» (2013, Москва), который был организован режиссёрами московского театра «Комедианты», и затем была опубликована в международном литературно-художественном альманахе «Царицынские литературные подмостки», а также в Москве на неё был записан радиоспектакль для слепых.
СВЕЧА ГОРЕЛА
Действующие лица:
Борис Леонидович
Ольга
Хотя попытка сохранить последовательность событий в этой истории имеется, но конкретные даты не имеют значения. Здесь скорее плавание по времени: из будущего в прошлое или в настоящее и наоборот.
Зима. Метель. Высвечиваются два островка. Слева – стол с наваленными на него бумагами и стул. Это уголок Бориса Леонидовича. Справа – ширма с голубыми цветами, топчан, стул и стол. На столе – пишущая машинка со вставленным в нее листком бумаги, настольная лампа с оранжевым абажуром, на топчане – небогатое, но милое покрывало, подушечка. Уютный уголок. Между островками – садовая скамейка.
Из темной глубины с разных сторон появляются двое в теплых пальто. Они идут по диагонали навстречу друг другу.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Когда я увидел тебя впервые, я понял, что ты заряжена как электричеством, до предела, всей мыслимою женственностью на свете. Если подойти к тебе близко или дотронуться до тебя пальцем, искра озарит комнату и либо убьет на месте, по милое покрывало.м, на топчане - небогатое,астолькая чь с метелью или дождем, или звездопадом.меют значения либо на всю жизнь наэлектризует магнетически влекущейся, жалующейся тягой и печалью. Помню, я весь наполнился тогда блуждающими слезами, весь внутренне сверкал и плакал. Мне было до смерти жалко себя и еще более жалко тебя. Все мое существо удивлялось и спрашивало: если так больно любить и поглощать электричество, как, вероятно, еще больнее быть женщиной, быть электричеством, внушать любовь.
ОЛЬГА. Как я люблю тебя, если бы ты только мог себе представить! Я люблю все особенное в тебе, все обыкновенные твои стороны, дорогие в их необыкновенном соединении, облагороженное внутренним содержанием лицо, которое без этого, может быть, казалось бы некрасивым, твой талант и ум. Мне все это дорого, и я не знаю человека лучше тебя.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Я ревную тебя к предметам твоего туалета, к каплям пота на твоей коже, к носящимся в воздухе заразным болезням, которые могут пристать к тебе и отравить твою кровь. Я без ума, без памяти, без конца люблю тебя.
Они садятся на скамейку.
ОЛЬГА. Помнишь нашу первую встречу? В редакции «Нового мира».
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Да, да, да… Ты была завотделом начинающих авторов…
ОЛЬГА. А ты – тем самым щедрым человеком на свете, кому было дано право говорить от имени облаков, звезд и ветра, нашедший такие вечные слова о мужской страсти и женской слабости. О тебе тогда говорили: приглашает звезды к столу, мир – на коврик возле кровати.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Ну… Лялюша!
ОЛЬГА. Мне нужды нет, что тогда говорили! Я это заново для себя говорю. Меня представили тебе, как одну из самых горячих твоих поклонниц. Помнишь, что ты тогда сказал?
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Подожди, сейчас… Ага! Какие мои книги у вас есть?
ОЛЬГА. Всего одна ваша книжечка.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Я вам достану. Хотя книги все розданы! (Виновато.) Я сейчас занимаюсь переводами, стихов своих почти не пишу. Работаю над Шекспиром. И знаете, задумал роман в прозе, но еще не знаю, во что он выльется. Хочется побывать в старой Москве, которую вы уже не помните, об искусстве поговорить, подумать. Как это интересно, что у меня еще остались поклонницы. Вы свободны?
ОЛЬГА. Сегодня я занята.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Вы одна живете?
ОЛЬГА. С мамой, отчимом и двумя детьми.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Я провожу вас.
Метель. Они идут, оживленно беседуя.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ (продолжая разговор). Я совершенно отрицаю современные переводческие воззрения. Работы Лозинского, Маршака и Чуковского кажутся мне искусственными и бездушными. Я стою на точке зрения прошлого столетия, когда в переводе видели задачу литературную, а не языковедческую. Помните лермонтовское «Из Гете»? «Подожди немного, отдохнешь и ты». Это и не перевод будто, а свое, прожитое.
ОЛЬГА. Чем дальше от оригинала, тем к нему ближе?
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Ну да. В оригинале все как-то держится и не проваливается, а в подстрочнике вдруг обнаруживается риторика и безвкусица невообразимая, и стремление этот подстрочник передать точно ведет к недопустимому затемнению смысла.
ОЛЬГА. Борис Леонидович, простите… Я все хотела спросить… Я знаю… Вернее, я читала, что в Англии вас любят и считают, что если бы Шекспир писал по-русски, то он писал бы, как Пастернак… Но переводы… Это же существование за счет чужих мыслей… Конечно, это важно, особенно, когда своих мыслей высказывать нельзя…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ (помолчал). Да, уж лучше быть талантливой буханкой черного хлеба, чем талантливым переводчикам.
ОЛЬГА. Тогда почему же вы так мало пишете своих стихов? Или, как написали в одной английской газете, «мужественно молчите»?
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Откуда они знают, что я молчу мужественно? (Пауза.) Я молчу, потому что меня не печатают.
Настроение уже испорчено. Некоторое время идут молча.
ОЛЬГА. Симонов задумал в нашем журнале новую рубрику «Литературная минутка». Вас ведь попросили дать самое последнее стихотворение.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Все равно не напечатают, вот увидите.
ОЛЬГА. Ну как это?
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ (неожиданно). Хотите я подарю вам эту площадь? (Пауза.) Неужели не хотите?
ОЛЬГА (в замешательстве). Хочу.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Безумье – доверяться здравому смыслу. Безумье – сомневаться в нем. Безумье – глядеть вперед. Безумье – жить не глядючи. (Вдруг.) Не смотря на свой безобразный вид, я был много раз причиной женских слез… Я не хочу, чтобы вы когда-нибудь плакали обо мне, но наша встреча не пройдет даром ни для вас, ни для меня. Вы знаете, у меня появилась прекрасная мысль. Правда, может быть, она мне одному кажется прекрасной? Давайте я отведу вас к одной моей знакомой пианистке. Она будет играть на рояле, а я обещал прочитать там немного из новой прозы. Это не будет роман, – так как принято понимать этот жанр. Я буду перелистывать года, десятилетия и останавливаться, может быть, на незначительном. Пожалуй, я назову эту новую вещь «Мальчики и девочки» или «Картинки полувекового обихода». Мне кажется, что вы впишете туда свою страницу. Она живет где-то здесь, рядом, только я не помню номер дома. (Они прошли туда-сюда.) Надо же, адрес забыл…
ОЛЬГА. «Не тот этот город, и полночь не та, и ты заблудился ее вестовой!» Смотрите, в окне огонь свечи! Как он подмигивает нам! Не здесь ли нас ждут?
Зазвучал этюд Шопена.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Как вы догадались? Это действительно дом Марии Веньяминовны Юдиной. А свеча-то!.. Она как будто для нас специально выставлена. Что же вы остановились? Идем! За этой дверью нас ждет чудо!
Музыка зазвучала громче. Свет погас. А когда зажегся, они были теми же, и в то же время совсем другими: у Бориса Леонидовича пальто нараспашку, шапка набекрень. Ольга возбуждена, хохочет, шалит, бросается пастернаковскими строчками, как снегом. Борис Леонидович почти не слышит, он сосредоточен на чем-то своем.
ОЛЬГА.
«Опять Шопен не ищет выгод,
Но, окрыляясь на лету,
Один прокладывает выход
Из вероятья в правоту!»
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Ну вот и родилось стихотворение, которое я отдам в подборку вашего журнала. Оно будет называться «Зимняя ночь»
ОЛЬГА.
«Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчем с мостовой…
– Не тот этот город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!»
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. А помните ту свечу в окне? Она еще помогла нам найти наших друзей.
ОЛЬГА.
«Бушует бульваров безлиственных заговор,
Они поклялись извести человечество.
На сборное место, город! За город!
И вьюга дымится, как факел над нечистью.»
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Вы заметили, огонь свечи проникал на улицу с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало за идущими и кого-то поджидало.
ОЛЬГА.
«Он двинуться хочет, не может проснуться,
Не может, засунутый в сон на засов.»
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Вот так и молодой Живаго увидел свечу извне, с морозу и понял, что там, за этим окном со свечой – жизнь, в будущем обязательно связанная с его жизнью, а пока еще только призывающая.
Мела метель по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Летели хлопья со двора
К оконной раме.
И двор тонул во вьюжной мгле.
И то и дело
Коптил нагар на фитиле.
Свеча горела.
Порывом вьюги из угла
Порыв соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
Сердца и стрелы на стекле
Чертя несмело,
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
ОЛЬГА. Какое колдовство! «Свеча горела»… Это же название целого романа!
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. И, пожалуй, есть еще более глубокий вывод: «Как зажженную свечу не ставят под сосуд, а в подсвечник и светят всем в доме», так и СЛОВО ДОЛЖНО БЫТЬ СКАЗАНО. Свеча горела. Да, это название моего романа. Нашего романа.
ОЛЬГА. Нашего?
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Мне нужно немедленно сказать вам о двух очень важных вещах. Не смотрите на меня сейчас. Я кратко выражу свою просьбу. Я хочу, чтобы вы говорили мне «ты», потому что «вы» уже ложь.
ОЛЬГА. Я не смогу говорить вам «ты», Борис Леонидович. Это для меня невозможно, это еще страшно…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Нет, нет, нет, вы привыкнете, ну пока вы не называйте меня, ну давай я скажу тебе «ты».
ОЛЬГА. Мы увидимся завтра.
Ольга пытается сделать жест прощания, но Борис Леонидович останавливает ее. Она так и замерла с поднятой рукой.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Я ведь не сказал второй вещи, тебе не сказал второй вещи. А ты не поинтересовалась, что я хотел сказать. Так вот, первое это было то, что мы должны быть на «ты», второе, я люблю тебя, я люблю тебя, и сейчас в этом вся моя жизнь. Завтра я в редакцию не приду, а подойду к твоему двору, ты спустишься ко мне, и мы пойдем побродим по Москве.
Теперь уже Борис Леонидович делает жест прощания и уходит в свой угол. Ольга садится за свой стол. Они разделены расстоянием, но разговаривают друг с другом так, будто находятся рядом.
ОЛЬГА. Вы ничего про меня не знаете, а ведь я дважды была замужем. Первый муж Емельянов из-за меня повесился, я вышла замуж за его соперника и врага Виноградова. Он казался обаятельным широким человеком, однако были люди, которые утверждали, что именно они написал на мою маму клеветнический донос, будто она в своей квартире «порочила вождя», и бедная моя мама три года провела в лагере. А я оставалась с ним (ведь у нас был сын, да и к дочке он относился, как к родной), и только смерть его положила конец этому ужасу. Если вы были причиной слез, то я тоже была! Судите сами, что я могу ответить на ваше «люблю», на самое большое счастье в моей жизни…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Олюша! Я люблю тебя. Я сейчас вечерами стараюсь остаться один и все вижу, как ты сидишь в редакции, как там почему-то бегают мыши, как ты думаешь о своих детях. Ты прямо ножками прошла по моей судьбе.
Ольга берет со стола книгу, открывает наугад, как бы загадывая желание, читает.
ОЛЬГА.
«Любимая – жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется Бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.»
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Я тоже второй раз женат. Развод с первой женой принес нам всем ужасные страдания.
ОЛЬГА.
«Он видит, как свадьбы справляют вокруг,
Как спаивают, напиваются,
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее, паюсной.»
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Да и второй брак был ошибкой. Отбил у друга жену… Почему он меня тогда не застрелил?!
ОЛЬГА.
«И таянье Андов вольет в поцелуй
И утро в степи под владычеством
Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим блеяньем тычется.»
(Закрыв книгу, повторяет.) «И таянье Андов вольет в поцелуй…»
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Жизнь моя, ангел мой…
Они медленно приближаются друг к другу. С остановками, расходами, кругами, зигзагами, то резко и категорично, то плавно и мягко. Движения, как и слова, лихорадочны и отрывисты.
ОЛЬГА. Мы перешагнули за рубеж, после которого все нам казалось недостаточным, и оставалось только одно: соединиться. Но тебя душила жалость к семье. Входя в квартиру, где тебя ожидала стареющая женщина, ты вдруг видел в ней Красную Шапочку, затерянную в лесу, и приготовленные слова о разрыве застревали в горле.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Ты вовсе не виновата в моем равнодушии к жене и моем страхе перед ней, ее железным характером и голосом. Это судьба распорядилась так… В первый же год соединения с Зинаидой Николаевной я обнаружил свою ошибку. Я любил на самом деле не ее, а Гарика…
ОЛЬГА. Ее первого мужа…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Чья игра очаровала меня.
ОЛЬГА. Как много прекрасного портили пересуды близких. Без конца мне гудели в уши, что ты должен бросить свою семью. Но я считала тебя больше, чем мужем. Ты вошел в мою жизнь, захватил все ее стороны, а я часто была не на высоте и нет-нет да и предъявляла какие-то свои на тебя бабьи права.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Нет, нет, Лялюша! Это уже не мы с тобой! Это уже не ты!
ОЛЬГА. Нет, это я, именно я! Я живая женщина, а не выдумка твоя.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Нет, нет, это уже из плохого романа.
ОЛЬГА. Не раз мы уходили друг от друга, чтобы больше не встретиться, но не встречаться не могли.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.
Быть женщиной – великий шаг,
Сводить с ума – геройство.
Но как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь,
И манит страсть к разрывам.
ОЛЬГА. Вот и порви со своей женой.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Нет, нет, Олюша. Конечно, я люблю тебя, но мы должны расстаться, потому что я не в силах вынести всех этих ужасов разрыва с семьей.
ОЛЬГА. Зинаида Николаевна устраивает тебе сцены из-за меня, а ты мне – из-за нее!
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Если ты не хочешь примириться с тем, что мы должны жить в каком-то высшем Мире и ждать неведомой силы, могущей нас соединить, то лучше нам расстаться. Соединяться на обломках чьего-то крушения сейчас уже нельзя.
ОЛЬГА. Твоя жена приходила ко мне. Я была больна и не помню, о чем мы говорили… Она все время повторяла, что не любит тебя, но семью разрушать не позволит.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Да что такое жизнь, что такое жизнь, если не любовь? Ты такая светлая, такая золотая. Теперь в мою жизнь вошло это золотое солнце. Это так хорошо, это так хорошо. Не думал я, что еще узнаю такую радость. И не нужно нам больше ничего – не надо ничего предсказывать, усложнять, кого-то обижать. Разве ты хотела бы быть на месте этой женщины? Мы годами уже не слышим друг друга…
ОЛЬГА. Нет, нет, не так… не о том… Я скажу тебе. Наши близкие, твои и мои, в тысячу раз лучше нас. Но разве в этом дело? Дар любви, как всякий другой дар. Он, может быть, и велик, но без благословения он не проявится. А нас точно научили целоваться на небе и потом послали жить в одно время, чтобы друг на друге проверить эту способность. Какой-то венец совместности, ни сторон, ни степеней, ни высокого, ни низкого. Равноценность всего существа, все доставляет радость, все стало душою. Но в этой дикой ежеминутно подстерегающей нежности есть что-то по-детски неукрощенное, недозволенное. Это своевольная, – разрушительная стихия, враждебная покою в доме. Мой долг – бояться и не доверять ей. Понимаешь, мы в разном положении. Окрыленность дана тебе, чтобы на крыльях улететь за облака, а мне, женщине, чтобы прижиматься к земле и крыльями прикрывать птенца от опасности.
Они уже вместе, рядом, в комнате Бориса Леонидовича. Период разрывов кончился. Дальнейшее – шутки, игры влюбленных, бесконечные разговоры и поцелуи, поцелуи, поцелуи...
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Ты мой подарок весенний, душа моя, ангел мой, как хорошо сделал Бог, что создал тебя девочкой…
ОЛЬГА. Но все равно «манит страсть к разрывам»…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Нет, нет! Мы провода под током, друг к друг вновь, того гляди, нас бросит ненароком.
ОЛЬГА. Это сейчас. А потом ты назовешь меня «ангелом залгавшимся»!
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Но это же не про тебя!
ОЛЬГА. И про меня тоже! Я мелочная, вздорная, базарная бабенка. Про ту, которую ты любил в Марбурге, я уже написала:
Я ресницы едва разлепила
Полузрячей от первого дня,
А она уж тебя не любила,
Разделяя тебя от меня.
Кто была следующая? Отвечай, старый развратник!
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Я не старый. Я приписал себе четыре года.
ОЛЬГА. Тем более! Читай «Разрыв»! Хочу знать, каким словами ты будешь обзывать меня потом, когда бросишь.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Бог тебя накажет, Лялюша!
ОЛЬГА. Начинай! Ну! «О, ангел залгавшийся…»
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
О, ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!
Но так – я не смею, но так – зуб за зуб!
О, скорбь, зараженная ложью вначале
О, горе, о горе в проказе!
ОЛЬГА. Спасибочки! Дальше!
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем
Разрыве столько грез, настойчивых еще!
Когда бы, человек, – я был пустым собраньем
Висков и губ, и глаз, ладоней, плеч и щек!
Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
По крепости тоски, по юности ее
Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
Я б штурмовал тебя, позорище мое!
ОЛЬГА. «Ангел залгавшийся» – раз. «Позорище» – два.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
Помешай мне попробуй. Приди, покусись потушить
Этот приступ печали, гремящий сегодня,
как ртуть в пустоте Торричелли.
Воспрети, помешательство, мне, – о приди, посягни!
Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы – одни!
О, туши ж, о, туши! Горячее!
ОЛЬГА. «Попробуй», «посягни»! Уже перешли к прямым угрозам и вымогательствам. Ну-ну! До чего дойдем?
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
Заплети этот ливень, как волны, холодный локтей
И как лилии, атласных и властных бессильем ладоней!
Отбивай, ликованье! На волю! Лови их, –
ведь в бешеной этой лапте –
Голошенье лесов, захлебнувшихся эхом охот в Калидоне,
Где, как лань, обеспамятев, гнал Аталанту к поляне Актей
Где любили бездонной лазурью, свистевшей в ушах лошадей,
Целовались заливистым лаем погони
И ласкались раскатами рога и треском деревьев, копыт и когтей.
– О, на волю! На волю – как те!
ОЛЬГА. Ого! Это уже попытка изнасилования!
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
Рояль дрожащий пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: – Милый! – Нет, – вскричу я, – Нет!
При музыке?! – Но можно ли быть ближе,
Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами по годно?
О, пониманье дивное, кивни,
Кивни и изумишься! – Ты свободна.
Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Раскрыть окно – что жилы отворить.
ОЛЬГА. Обрушился на бедную женщину с высоты своего таланта! А ей, наверно, и ответить нечего. Это Цветаева тебе сказала бы: «Мой милый, что тебе я сделала?» Вот бы тебе тогда жениться на Марине.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ (испуганно). Лялюша! Мы никогда бы не ужились рядом. В Марине был концентрат женских истерик. Мне это противопоказано.
ОЛЬГА. Все равно я ревную!
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Удивительно. Мне кажется, сильно, со страстью я могу ревновать только к низшему. Соперничество с высшим вызывает у меня совсем другие чувства. Если бы близкий мне по духу человек полюбил ту же женщину, что и я, у меня было бы чувство печального братства с ним, а не спора и тяжбы. Я бы, конечно, ни минуты не мог делиться с ним предметом моего обожания. Но я бы отступил с чувством совсем другого страдания, чем ревность, не таким дымящимся и кровавым. То же самое случилось бы у меня при столкновении с художником, который покорил бы меня превосходством своих сил в сходных со мною работах.
ОЛЬГА. Как в случае с Маяковским?
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Да. У нас с ним обнаружились непредвиденные технические совпадения, сходное построение образов, сходство рифмовки. Чтобы не повторять его, я стал подавлять в себе задатки, с ним перекликавшиеся. Это сузило мою манеру и ее очистило.
ОЛЬГА. Помнишь, Маяковский как-то процитировал чью-то статью: «Когда время ломки выдвигает вперед футуризм и его знаменосца Маяковского, Пастернак остается в тени…» Но тут же от себя добавил: «Когда время выдвигает Пастернака, Маяковский остается в тени…»
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Я не понимал его пропагандистского усердия, подчинения голосу злободневности. Он как-то пошутил: «Ну что ж. Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я – в электрическом утюге.»
ОЛЬГА. А помнишь, как ты поехал в Париж на международный конгресс писателей…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Я не посмел не поехать, ко мне приезжал секретарь Сталина. Я испугался.
ОЛЬГА. Тебя представили конгрессу, как одного из самых больших поэтов нашего времени, а ты в своей речи говорил главным образом о своей болезни…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. В то время было такое движение среди писателей – стали ездить по колхозам, собирать материалы для книг о новой деревне. Я тоже поехал с мыслью написать такую книгу. То, что я там увидел, нельзя было выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел. Целый год я не мог спать. Я сильно изменился с тех пор и не жалею об этом.
ОЛЬГА. Но тогда на конгрессе ты все-таки сказал несколько слов: «Поэзия – всюду, она валяется в траве под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и поднять с земли…»
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Нужно писать вещи небывалые, совершать открытия и чтобы с тобой происходили неслыханности, вот это жизнь, остальное все вздор. Я завел отдельную тетрадку для стихов, написанных сейчас. Это будут стихотворения Юрия Живаго. Они составят заключительную главу романа. Герой умрет, а его друзья через много лет будут перечитывать его стихи. Я решил назвать свой роман просто: «Доктор Живаго».
Жест прощания уже сделан, но они не могут расстаться, как бы предчувствуя скорую и неминуемую долгую разлуку.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Давай встретимся сегодня вечером, и я почитаю тебе новые главы из первой части. Слава Богу, я дал разъехаться домашним, все близкие давно в разброде…
ОЛЬГА.
Мы сядем в час и встанем в третьем,
Ты – с книжкою, я – с вышиваньем…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем…
ОЛЬГА. Как поразительно мы встречаемся! Как всё благоприятствует нам, все удается. Как соединяются в нашу пользу обстоятельства, точно случайности сговорились между собой. Точно действительность – наша сестра и знает наши мысли. Точно существование – наш брат.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. А наши разговоры… Два сознания перепутались, перемешались друг с другом, как спутываются волосы на двух прижатых друг к другу головах… я посвятил тебе перевод Фауста.
ОЛЬГА. Я отвечу в стихах.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Только запиши, а то забудешь…
Они расстались. Борис Леонидович замер, а Ольга вошла в свою комнату, рассеянно провела пальцами по клавишам машинки, поправила подушечку и вдруг резко села на топчан.
ОЛЬГА. Когда в восемь вечера оборвалась моя жизнь – в комнату вошли чужие люди, чтобы меня увести – в машинке осталось неоконченное стихотворение. Я так и не успела тебе сказать, что у нас будет ребенок.
Борис Леонидович подходит к машинке, садится, читает стихотворение.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
Играй во всю клавиатуру боли,
И совесть пусть тебя не укорит
За то, что я, совсем не зная роли,
Играю всех Джульетт и Маргарит…
За то, что я не помню даже лица
Прошедших до тебя, с рожденья – все твое.
А ты мне дважды отворял темницу,
И всё ж меня не вывел из нее…
ОЛЬГА. Они стали рыться в вещах, швырять их, а маленький Митька, который прибежал из школы, устраивать ежа на балконе, смотрел круглыми глазами. Один из них положил ему руку на голову, – «Хороший малый», – а Митька недетским движением стащил со своей головенки эту руку. Я заметила, что перебирая книги и бумаги, они отбирали все связанное с тобой. Все твои рукописи, все отрывки записей – все это было отобрано и отложено. Все книги, которые ты за это время надарил мне, надписывая широко и щедро, исписывая подряд все пустые странички, – все попало в чужие руки. И все мои записки, все мои письма – и ничего более. Меня увезли.
Ольга уходит на задний план, Борис Леонидович остается сидеть возле стола с машинкой.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Фауст! Фауст! Маргарита моя! Прелесть моя незабвенная! Пока тебя помнят вгибы локтей моих, я побуду с тобой. Я выплачу слезы о тебе в чем-нибудь достойном, остающемся. Я запишу память о тебе в нежном, нежном, щемяще-печальном изображении.
ОЛЬГА (издалека). Я переступила какой-то Рубикон, отделяющий человека от заключенного. Уже меня так унизительно осматривали дежурные женщины, уже все лежало у них в руках – все мои любимые штучки: колечко, часики, даже лифчик отобрали, – потому что на лифчике можно повеситься, так мне объяснили потом.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Я положу черты твои на бумагу, как после страшной бури, взрывающей море до основания, ложатся на песок следы сильнейшей, дальше всего доплескивавшейся волны. Ломаной извилистой линией накидывает море пемзу, пробки, ракушки, водоросли, самое легкое и невесомое, что оно могло поднять со дна. Это бесконечно тянущаяся вдаль береговая граница самого высокого прибоя. Так прибило тебя бурей жизни ко мне, гордость моя. Так я изображу тебя.
ОЛЬГА. Потянулись мои лубянские будни: оказалось, что будни бывают и в аду. Допросы продолжались почти каждую ночь. Я как-то держалась только потому, что из-за моей беременности получила разрешение спать до обеда. Допрашивали о тебе, о том, как мы с тобой пытались удрать за границу, об антисоветском содержании «Доктора Живаго». Мои ответы их не удовлетворяли, тогда они прямо заявили, что ты английский шпион.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
Она была так дорога
Ему чертой любою,
Как морю близки берега
Всей линией прибоя.
Как затопляет камыши
Волненье после шторма,
Ушли на дно его души
Ее черты и формы.
ОЛЬГА. Через полгода на очередном допросе мне сказали: «Вы так часто просили о свидании, и мы вам сейчас его даем: приготовьтесь к свиданию с Пастернаком».
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.
ОЛЬГА. У меня внутри все похолодело, и вместе с тем охватила необычайная радость – я даже забыла, что увижу тебя в таком состоянии – арестованного (тогда я была уверена в этом), униженного, наверно, замученного. И все же мне казалось большим счастьем, что я тебя обниму, найду в себе силы сказать тебе какие-то нежные ободряющие слова…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную.
ОЛЬГА. Выписали пропуск, вручили конвоиру, и я вышла с ним, прямо шатаясь от счастья. Началось длительное хождение по бесконечным незнакомым коридорам. То и дело встречались лестницы вверх, но чаще – вниз и вниз. Стало ясно, что ведут меня куда-то в подвал. Когда я была уже окончательно измучена, где-то в полутьме меня втолкнули в дверь и захлопнули ее напрочь с каким-то могильным железным лязгом.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может.
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сгложет.
ОЛЬГА. Когда глаза привыкли к полутемноте, я увидела полуизвестковый пол с лужами воды, покрытые цинком столы и на них – укрытые кусками серого брезента неподвижные чьи-то тела. Специфический сладкий запах морга. Трупы… Один из них, значит, и есть мой любимый? Я опустилась на известковый пол; мои ноги при этом оказались в луже, но я ничего не замечала. И, как ни странно, вдруг прониклась полным спокойствием. Почем-то, как будто Бог мне внушил, я поняла, что все это страшная инсценировка, что тебя здесь не может быть.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. В эту самую минуту я писал стихи про наше с тобой свидание:
Засыплет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги, –
За дверью ты стоишь.
Одна, в пальто осеннем,
Без шляпки, без калош,
Ты борешься с волненьем
И мокрый снег жуешь.
Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.
Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.
И в нем навек засело
Смиренье этих черт.
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.
И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.
Но кто мы и откуда,
Когда со всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет.
ОЛЬГА. Я оказалась в тюремной больнице. Там и погиб, еще не успев появиться на свет, НАШ С ТОБОЙ РЕБЕНОК.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Меня вызвали на Лубянку. (В зал.) Вы знаете, я иду в такое страшное место, вы же понимаете, куда я иду, я нарочно не хочу говорить, куда я иду. Вы знаете, они сказали, чтобы я немедленно пришел, они мне что-то отдадут. Наверно, мне отдадут ребенка. Я сказал Зине, что мы должны его пригреть и вырастить. Пока Люши не будет. Это был страшный скандал, но я должен был вытерпеть, я тоже должен как-то страдать. Какая же там жизнь у этого ребенка, и, конечно же меня вызывают, чтобы я забрал его. И вообще, если я там останусь, я хочу, чтобы вы знали, что я вот туда пошел. (Отходит к заднику.)
ОЛЬГА. Следователь «постановил» кое-какие книги с надписями личного характера вернуть Пастернаку. Для этого тебя и вызвали.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ (идет вперед резко, говорит в зал). Мне ребенка не отдали, а предложили забрать мои письма. Я сказал, что они ей адресованы, и чтобы отдали их ей. Но мне все же пришлось взять целую пачку писем и книг с моими надписями. (После паузы.) Вы знаете, Сталин – убийца.
ОЛЬГА. Наступил день, когда какой-то прыщавый лейтенант объявил мне заочный приговор «тройки»: пять лет общих лагерей «за близость к лицам, подозреваемым в шпионаже».
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. А подозреваемый в шпионаже» спокойно разгуливал по Москве, своей свободой и жизнью обязанный твоему геройству и выдержке.
ОЛЬГА. Я в бригаде Буйной, агрономши из зэков. Это сухонькая остроносая женщина, похожая на хищную птичку. Нас, московских «барынь», она ненавидит острой ненавистью. На всех орет с утра, дергает меня за руку, сует мне в руки кайло. Я уныло пытаюсь подковырнуть землю – не ковыряется. О норме и мечтать нечего. А полнормы нет, значит, не будет ни писем, ни посылок. Это уже «полторы беды».
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Родная моя, ангел мой! Здравствуй, здравствуй! Мысленно постоянно говорю с тобой, слышишь ли ты меня? Не падай духом, мужайся, мы хлопотали и хлопочем, не надо терять надежды.
ОЛЬГА. Кайло не поднимается. Кирзовые башмаки сорок четвертого размера, как бы в насмешку надетые на мои ноги, не оторвешь от земли. Вспоминаю твои строчки из «Магдалины»:
Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.
Брошусь на землю у ног распятья,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Ангел мой Олюшка. Я читал твое письмо, прикидывал, когда тебя можно ждать и перебирал воспоминания. Как чудно, по своему обыкновению, ты пишешь. И какое грустное-грустное у тебя письмо! Но когда ты его писала, Сталин был еще жив, и не было приказа об амнистии, и ты не знала, какая радость нам всем готовится. Теперь единственная забота, чтобы это ожидаемое счастье не истомило нетерпением, чтобы предстоящее избавление не заразило своей близостью и громадностью. Итак, зарядись терпением и не теряй спокойствия. Наконец-то мы почти у цели.
ОЛЬГА. Письма, письма твои с летящими строчками-журавлями, потерянные, не пропущенные, пробившиеся сквозь запреты, горящие для меня, как пламя свечи в окне для заблудившегося в метели одинокого путника. Помнишь? «Не тот это город, и полночь не та, и ты заблудился, ее вестовой!»
«Сердца и стрелы не стекле
Чертя несмело,
Свеча горела на столе,
Свеча горела.»
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Родная моя! Я написал «Колыбельную», где изобразил тебя пленницей-красой, а себя Георгием, убивающим дракона. Я долго и тяжко болел, поэтому туда проникли строки:
Конный уничтожил
Чудище в бою,
Но недолго прожил
На беду мою.
Но эти строчки я выброшу, потому что конец нашей сказки должен быть обязательно хорошим. В конце этой страшной сказки мы встретимся, и жизнь широкою дорогой опять будет лежать перед нами. Вот главное, о чем хочется говорить и чему радоваться.
Они идут навстречу друг другу. Она возвращается, он встречает.
ОЛЬГА. Ты переделал сказку. Тебе так хотелось представить себе, что из плена меня все-таки спасло твое имя.
Конный в шлеме сбитом,
Сшибленный в бою.
Верный конь, копытом
Топчущий змею.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
ОЛЬГА.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
Конь и труп дракона
Рядом на песке.
ОЛЬГА.
В обмороке конный.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
Дева в столбняке.
ОЛЬГА.
То в избытке счастья
Слезы в три ручья,
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
То душа во власти
Сна и забытья.
ОЛЬГА.
Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.
Подходят друг к другу.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Ты не изменилась.
ОЛЬГА. А ты думал увидеть меня глубокой старухой? Конечно, четыре года лагерей…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Ты хороша, как прежде! Как раз так, как мне думалось и мечталось. Той бесподобно простой и стремительной линией, какою вся ты одним махом была обведена кругом сверху до низу творцом и в этом божественном очертании сдана на руки моей душе, как закутывают в плотно накинутую простыню выкупанного ребенка.
ОЛЬГА. Мы снова вместе. Я счастлива. Но почему мне так грустно и одиноко, и тревожно, будто трагедия еще не окончилась.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Наверно, потому, что существование любящих – всегда трагедия. И тем большая, чем счастливее их любовь. Душа одинока не вследствие житейских неудач, а вследствие своих размеров. Как ни жаждет она совместной жизни с другой такою же, их трудно уместить в одной общей действительности, как трудно установить два больших рояля в одной маленькой комнате.
ОЛЬГА. «И одиночеством вчерашним полно все в сердце и в природе».
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Олюшенька! Не надо ничего бояться! Пускай будет так всю жизнь. Мы летим друг к другу, и нет ничего более необходимого, чем встретиться нам с тобой.
Море нам по колено,
И в безумье своем
Нам дороже Вселенной
Миг короткий вдвоем!
ОЛЬГА. Нас охватила какая-то отчаянная нежность и решимость быть всегда вместе.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Я уходил от тебя только для работы.
ОЛЬГА. И возвращался. И каждая встреча была первой и жаркой.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Утренние свидания, зимние вечера, чтения…
ОЛЬГА. Приемы милых для нас гостей на даче, где все нам казалось таким уютным.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Черной ночью, по лужам…
ОЛЬГА. Или белому насту…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. С перекрестным светом двух электрических фонариков в руках…
ОЛЬГА. Мы выходили из теплой конуры, шли мимо огородов или по мостику, из-под которого плескалась вода…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Летом слушали лягушачьи концерты…
ОЛЬГА. А зимой, оставляя неровные следы, ходили вдоль и поперек по заснеженному льду озера.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Гуляли и под дождем, и под метелью…
ОЛЬГА. Участники всех времен года, согласные, нашедшие в жизни друг друга и дрожащие только за то, чтобы удержать, сохранить этот уклад…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Чтобы никто и ничто не могли его прервать.
ОЛЬГА. И дольше века длился день, и праздник не прекращался. И состариться тебе было во мне не дано.
Пауза.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Лялюша! Давай остановимся на этом. Смотри, какой славный конец получился. Мы друг друга любим. Мы вместе.
Ольга молчит.
Послушай, что я написал тебе:
Недотрога, тихоня в быту,
Ты сейчас вся огонь, вся горенье.
Дай запру я твою красоту
В темном тереме стихотворенья.
Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Все равно, на свету, в темноте
Ты всегда рассуждаешь по-детски.
Замечтавшись, ты нижешь на шнур
Горсть на платье скатившихся бусин.
Слишком грустен твой вид, чересчур
Разговор твой прямой безыскусен.
Пошло слово любовь, ты права.
Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую.
Разве хмурый твой вид передаст
Чувств твоих рудоносную залежь,
Сердца тайно светящийся пласт?
Так зачем же глаза ты печалишь?
Ольга молчит.
Это стихотворение не войдет в роман, потому что роман уже закончен.
ОЛЬГА. Да, закончен.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Теперь он будет жить своей жизнью, независимой от нашей. Так зачем же ворошить? Зачем тревожить те дурные прошлые дни, тот путь на Голгофу? Пройдут времена, много великих времен. Меня тогда уже не будет. И, наконец, снова объявится так долго таившееся благородное, творческое, великое. Жизнь людей будет, как никогда, богата и плодотворна. Тогда вспомнят обо мне.
ОЛЬГА (горько). Вспомнят. Лет через тридцать, наконец-то, напечатают роман на твоей Родине. Но путь на Голгофу был не только твой. Мы шли вместе. Это были мои самые счастливые годы, и я не хочу выбрасывать из них ни одной слезинки, потому что это было бы неправдой, а ты этого не любил, мой всесильный «бог деталей», «бог любви», «бог неприкаянный». Так пройдем же еще раз по этому пути.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Ты права, Лялюша. Я закончил главный и самый важный свой труд, единственный, которого я не стыжусь.
ОЛЬГА. Помнишь, как ты был счастлив, когда увидел свою рукопись, переплетенную в красивый коричневый переплет?
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Ты разнесла книги по редакциям, а они боялись напечатать.
ОЛЬГА. Но тебя напечатали в Италии, а потом в течение двух лет перевели на двадцать четыре языка мира.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. А у нас назвали роман антисоветским и запретили. Потому что под советским понимали нежелание видеть жизнь такой, как она есть на самом деле. Нас заставляли радоваться тому, что приносило нам несчастье, клясться в любви тому, кого не любили, вести себя противно инстинкту правды. И мы заглушали этот инстинкт, как рабы, идеализировали свою же неволю.
ОЛЬГА. А когда тебе присудили Нобелевскую премию, ты послал телеграмму: «Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен».
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. А меня исключили из Союза писателей, и студенты устроили демонстрацию с плакатами, требующими высылки меня за границу.
ОЛЬГА. Из было всего несколько десятков, и тех собрали угрозами.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Но кто заставил писать письма людей, которые романа даже в глаза не видели. Но они писали, и их печатали.
Вот экскаваторщик: «Газеты пишут про какого-то Пастернака. Будто есть такой писатель. Ничего о нем я до сих пор не знал, никогда его книг не читал…»
Вот нефтяник: «Кто такой Пастернак? Что он написал? Автор заумных стихов.»
Вот председатель колхоза: «1250 тысяч пудов хлеба. 200 тысяч пудов маслосемян… И вывод: мы с радостью встретили сообщение о том, что Пастернак исключен из Союза советских писателей.»
Ну, это простые люди, а вот представители советской интеллигенции:
Инженер: «… место его за негодностью на свалке…»
Пианистка из Риги: «… манерная заумь Пастернака меня никогда не трогала… Ясно, что Нобелевская премия за антисоветский поступок.»
Продавщица книжного магазина из Вильнюса: «Его имя будет забыто, к его книгам не прикоснется рука честного человека».
ОЛЬГА. «Сказал также Иисус ученикам своим: невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят». Это сказано о них – людях, готовящих полосу «Народного гнева». Это они трусливо спрятались под именами преступно обманутых и оболваненных ими, не читавших романа, но по своему статусу имеющих право говорить от лица «простого народа» и по мнению искусителей, имеющих право на «осуждение без рассуждения».
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Я понимаю Суркова и Катаева, это сановники от литературы, но кто заставил друзей моих отвернуться от меня?
ОЛЬГА. Редакции одна за другой рвали договора на печатание переводов – единственное средство к существованию. Деньги катастрофически кончались. Нас стали душить голодом. Ты написал письмо, что поскольку тебя считают эмигрантом, просишь отпустить нас за границу, а потом это письмо порвал.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Нет, Лялюша, уехать за границу я не смог бы. Я мечтал поехать на Запад, как на праздник, но на празднике этом ежедневно существовать ни за что не смог бы. Пусть будут родные будни, родные березы, привычные неприятности и даже привычные гонения. И – надежда. Буду испытывать свое горе.
Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим кончать Голгофой.
ОЛЬГА. Тогда-то ты и отказался от премии.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ (развел руками). Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь.
ОЛЬГА. Но они не хотели, чтобы ты отказывался от премии – государству валюта была нужна. «Им» надо было, чтобы ты публично покаялся. Ты подписал письмо к Хрущеву, и это было еще одним унижением. И виновата в этом была я…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Не будем об этом. Пораженья от победы… А может быть, это победа путем отказа, ведь когда заподозренный в мученичестве заявляет, что он благоденствует, является подозрение, что его муками довели до этого заявления.
ОЛЬГА. Но и это не все. Мы поссорились, и я сказала тебе, что немедленно уезжаю. Я и уехала, а утром мне позвонили из ЦК и сообщили, что ты выкинул кое-что почище истории с романом, что сейчас по всем волнам передают стихотворение, которое ты передал одному иностранцу.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Когда ты на меня справедливо разозлилась и уехала, я все в это не хотел поверить. Я написал стихотворение о Нобелевской премии.
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то воля, люди, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду,
Будь что будет – все равно.
Что ж посмел я намаракать,
Пакостник я и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Все тесней кольцо облавы.
И другому я виной –
Нет руки со мною правой –
Друга сердца нет со мной.
Я б хотел с петлей у горла,
В час, когда так смерть близка,
Чтобы слезы мне утерла
Правая моя рука.
Я написал это стихотворение, Лялюша, и пошел к тебе, мне не верилось, что ты уехала. И тут мне встретился иностранный корреспондент. Шел за мною и спрашивал, не хочу ли я что-либо ему сказать? Я сказал, что только что потерял любимого человека и показал ему стихотворение, которое нес тебе…
ОЛЬГА. Неужели ты думал, что я тебя и впрямь брошу, что бы ты не натворил? Путаник ты мой. (Пауза.) Понимаешь ли ты, что ты победил, что этим стихотворением ты перечеркнул все усилия твоих преследователей, желавших обмануть потомков – будто ты сам «совершенно добровольно» отказался от премии и публично покаялся. Ты достойно отплатил за те письма, которые в страхе за близких и перед лицом угрозы лишения Родины принужден был подписать.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Они вызвали меня и пытались взять письменное обязательство не встречаться с иностранцами. Я сказал: если вам надо – поставьте конвой и не пускайте ко мне иностранцев, а подписать я могу только то, что знаком с вашей бумагой, но обязательств – никаких. И вообще странно от меня требовать, чтобы я лизал руку, которая меня бьет, и даже не раскланивался с теми, кто меня приветствует.
ОЛЬГА. Ты стал раздражительным, будто какая-то жилка лопнула. Обычно добродушный и доброжелательный, вдруг становился резким, нетерпимым, временами даже грубым. Когда актер Борис Ливанов однажды попытался внушить тебе, что ты – прежде всего лирический поэт и неразумно столько сил и времени уделять роману, а тем более отстаивать право на его существование, ты попросил его замолчать.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Он всю жизнь мечтал о роли Гамлета. Но с какими средствами он хотел его играть?
ОЛЬГА. Гамлет всегда считался трагедией воли.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Да. Но в каком смысле понимать это? Облик принца крови не вяжется с представлением о слабонервности. «Гамлет» - не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения. Волею случая Гамлет избирается в судьи своего времени и в слуги более отдаленного. Это драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения.
Вот я весь. Я вышел на подмостки.
Прислоняясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
То, что будет на моем веку.
Это шум вдали идущих действий.
Я играю в них, во всех пяти.
Я один. Все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти.
ОЛЬГА. Тучи над головой все сгущались. Нагнетала тревогу грубая слежка. Какие-то подозрительные личности преследовали по пятам, куда бы мы ни шли. Работали они нагло, открыто, демонстративно. Я узнала, что и на даче нашей где-то вставлен магнитофон. Создавалось ощущение всеобъемлющего преследования. Многие тогда покинули нас.
Они уже в комнате Бориса Леонидовича. Идет заключительная сцена. Борис Леонидович настроен решительно.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Мне эта история надоела. Может, лучше уйти из жизни? Я ничего уже не могу противопоставить этим издевательствам. Если ты, Лялюша, понимаешь, что нам надо вместе быть. то я оставлю письмо. Давай сегодня посидим вечер, побудем вдвоем, и вот так нас вдвоем пусть и найдут. И «им» это очень дорого обойдется… Это будет пощечина.
ОЛЬГА. Подожди, давай посмотрим на вещи со стороны, давай найдем в себе мужество потерпеть… Трагедия еще может обернуться фарсом… Может быть, лучше выждать и над всем этим хорошенько посмеяться…
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Посмеяться? А что? (Неожиданно.) Кис-кис-кис…
ОЛЬГА. Что с тобой?
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Ты говорила, что где-то здесь спрятан магнитофон. Кис-кис-кис… Магнитофоша! Ты где? Не бойся. Мы только посмеемся. А может быть, ты любишь поэзию? (Ольге.) Как он красноречиво и многозначительно молчит. Что ему прочитать?
ОЛЬГА. А ты сочини.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Прямо сейчас что ли?
ОЛЬГА. Конечно! Сыграй в буриме.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Умница! Предлагай рифмы.
ОЛЬГА. Так… защиты – обвиты
Плащом – плющом
Хмелем –
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Расстелем!
ОЛЬГА. Плащ – … (задумалась.)
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Плащ… (задумался.)
ОЛЬГА. Таращь!..
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Что?
ОЛЬГА. Глаза не таращь!
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Нет, Лялюша, не хорошо. Сразу вспоминается мандельштамовское «тараканьи таращит усища» Лучше пусть будет – чащ!
ОЛЬГА. Отлично! Плащ – чащ.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Что у нас получается? Плющом – защиты – плащом – обвиты – чащ – хмелем – плащ – расстелем. Ты первая. Читай.
ОЛЬГА. Слушай.
От жизни не закроешься плющом,
И от любви ты не ищи защиты.
Судьбу дразни малиновым плащом,
Пусть ноги проволокой медною обвиты.
Умчимся в запах перезрелых чащ,
Пусть ноги обовьет пьянящим хмелем.
Любовный тот, малиновый тот плащ
Мы, как восход, на небесах расстелем.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Ну, как, Магнитофоша? Тебе понравилось? Нет? Молчит. Ну тогда я...
Под ракитой, обвитой плющом,
От ненастья мы ищем защиты.
Наши плечи покрыты плащом,
Вкруг тебя мои руки обвиты.
Я ошибся. Кусты этих чащ
Не плющом перевиты, а хмелем.
Ну так лучше давай этот плащ
В ширину под собою расстелем!
ОЛЬГА. Браво!
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Магнитофоша молчит. Ему что, не понравилось?
ОЛЬГА. Наверно, решил, что ты развратник. Ты ему лучше расскажи что-нибудь забавное. Например, про свою встречу с Вертинским.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Да, это смешно было. На каком-то вечере ко мне подошел неизвестный высокий, хорошо одетый человек и представился. Я понял, что это Вышинский. И вдруг он начал говорить о том, как меня любят и ценят в эмиграции, какую радость я доставляю оторванным от Родины людям. Я удивился – с какой это стати, думаю, Вышинский так заботится об эмигрантах. И спросил его совета по моим квартирным делам. Тут уж удивился Вышинский. А потом мне сказали, что это не Вышинский, а недавно вернувшийся из эмиграции Вертинский. Он читал свои стихи, а я ему сказал: «Да, бросьте вы этим заниматься, это не искусство».
ОЛЬГА. Так не надо же читать его тексты. Его слушать надо, как он поет, и бросать ему заниматься этим ни в коем случае не следует. Вертинский есть Вертинский – он один такой на всю Россию.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Да, ты знаешь, может быть, я и напрасно его обидел. Ему бы прийти пораньше, а то мы уже успели выпить.
Смеются.
ОЛЬГА. А помнишь, когда мы сидели на даче и пили чай? Сахара почему-то не было, ты мазал черный хлеб горчицей и запивал этот бутерброд чаем. Постучался нищий. Ты вытряхнул ему всю мелочь, но решил, что этого недостаточно, и стал так суетиться, что нищий явно застеснялся и заторопился уйти.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. А я его не пускаю, говорю: Извините, в доме ничего нет, вы приходите завтра, завтра все привезут, я вам что-нибудь дам, а сейчас даже денег нету.
ОЛЬГА. Нищий рвался в дверь, которую ты ему загораживал. Наконец, он прошмыгнул в нее и буквально бежал.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. А я ему вслед кричал: Завтра непременно приходите! Ну, правда, как-то неудобно: пришел человек, а ему совершенно нечего дать.
Смеются.
Как настроение, Магнитофоша?
ОЛЬГА. У него, наверное, заболел живот от смеха. Еду я в трамвае, а тут две старушки ругаются. Одна другой говорит: «Что ты на меня кричишь? Я тебе не Живага какая-то!»
Смеются.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Действительно, «Доктор Живаго» и Нобелевская премия настолько выходят за рамки обыденщины, что все наши сумасшедшие приняли меня за своего вождя. Поэтому какие-то безумцы подстерегают меня и тем или иным способом проникают на дачу. Один предлагал зашифровать роман. Другой спрашивал, не нужно ли убить Хрущева и предлагал для этого свои услуги. Третий утверждал, что он и его мама видят апокалипсические сны, определяющие мою жизненную линию. И вот, чтобы сообщить об этой линии, чтобы я с нее ненароком не сбился, он пробрался на чердак, а уже с чердака проник на второй этаж и, поведав мне о своих и маминых снах, удалился. Спустя некоторое время раздался стук в парадную дверь: вернулся предсказатель. Он забыл на чердаке галоши, и вот я лезу по лестнице на чердак за его галошами…
На этот раз смеются особенно долго. Замолкают. После паузы подходят близко друг к другу.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. Еще и еще раз. Прости меня за прорывающееся в моих словах смятение. Как бы мне хотелось говорить с тобой без этого дурацкого пафоса. Но ведь у нас действительно нет выбора. Называй ее как хочешь, гибель действительно стучится в наши двери. Только считанные дни в нашем распоряжении. Воспользуемся же ими по своему. Потратим их на проводы жизни, на последнее свидание перед разлукою. Простимся со всем, что нам было дорого, с нашими привычными понятиями, с тем, как мы мечтали жить и чему нас учила совесть. Скажем еще раз друг другу наши ночные тайные слова, великие и тихие, как название азиатского океана. Ты не даром стоишь у конца моей жизни, потаенный, запретный мой ангел… Ты тогда в редакции «Нового мира» завотделом начинающих авторов была совершенно тою же, как сейчас, и так же ошеломляюще хороша. Часто потом в жизни я пробовал определить и назвать тот свет очарования, который ты заронила в меня тогда, тот постепенно тускнеющий луч и замирающий звук, которые с тех пор растеклись по всему моему существованию и стали ключом проникновения во все остальное на свете, благодаря тебе.
ОЛЬГА. Боренька, любимый мой! Как я счастлива! Мы с тобой как два первых человека Адам и Ева. И мы с тобой последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет между ними и нами, и в память этих исчезнувших чудес мы дышим и любим, и плачем и держимся друг за друга и друг к другу льнем.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
ОЛЬГА.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.
ОЛЬГА.
Метель чертила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе
Свеча горела.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
ОЛЬГА.
И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
И все терялось в снежной мгле,
Седой и белой.
ОЛЬГА.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
На свечку дуло из угла
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
ОЛЬГА.
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Конец.