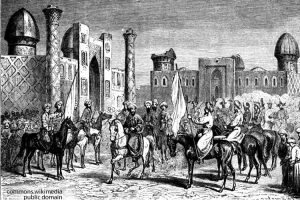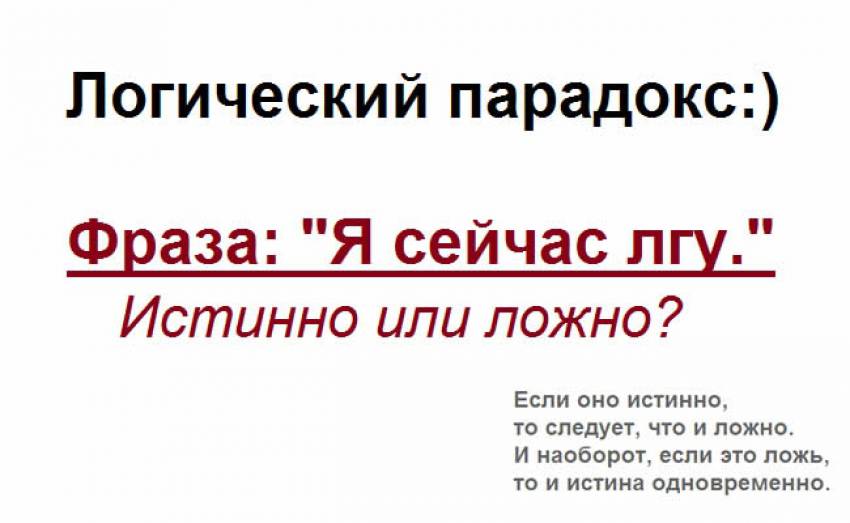Когда 11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война, то очень немногие люди могли вспомнить, из-за чего же она началась. Что заставило ведущие державы тогдашнего мира вцепиться в глотку друг другу, навалить гекатомбы трупов и в итоге поставить под вопрос само цивилизационное лидерство Европы — в среднесрочной перспективе и утерянное.
Человеческой психике трудно было примириться с бессмысленностью грандиозной бойни. (Полагаю, этим и объясняется неимоверная популярность в 1920-х детективов Агаты Кристи, где убивают исключительно по рациональным мотивам.) Именно поэтому многим тогда показалась разумной марксистская теория, рассматривавшая Первую мировую как закономерный этап развития капитализма. А потом и многие немарксистские историки XX века пришли к выводу, что Первая мировая война была практически неизбежна, она была запрограммирована сложившейся в Европе системой союзов и агрессивной логикой милитаристской культуры.
Убийство в Сараеве стало предлогом. Сумма структурных противоречий — экономических, культурных, цивилизационных — была такова, что и без сараевского выстрела вызвала бы кризис, который, как гнев богов в греческой трагедии, смертных язвит и не оставляет иного выбора, кроме самоубийства.
Американский политолог Ричард Лебоу по этому поводу как-то заметил, что если бы Карибский кризис разразился Третьей мировой, то уцелевшие историки тоже потом писали бы о ней, как о неизбежном результате холодной войны, гонки вооружений, борьбы двух мировых блоков за сферы влияния, катастрофе — словом, воспроизвели бы стереотипную картину Европы начала ХХ века. Между тем, европейский «пороховой погреб» перед войной почему-то вполне успешно прошел через пять острых кризисов (два марокканских, 1905–1906 и 1911 гг., и три балканских — 1908–1909, 1912 и 1913 гг.), что говорит скорее о высокой стрессоустойчивости тогдашней системы международных отношений.
Человеческих рук дело
У британского историка Нила Фергюссона есть остроумное опровержение теории о неизбежности Первой мировой. Самым надежным видом инвестиций в то время были государственные облигации. Война означала новые эмиссии, то есть снижение цены уже выпущенных облигаций. Если бы финансовые рынки предвидели войну, то инвесторы стали мы массово скидывать эти ценные бумаги, на деле же наблюдалось нечто противоположное. Даже Ротшильды, чьи банкирские дома в Лондоне, Вене и Париже уверенно держали руку на пульсе европейской политики, оказались застигнуты врасплох. Фергюссон заключает:
Начало войны было предотвратимой политической ошибкой. Это был не «долгий путь к катастрофе», а всего лишь небольшой промах.
Я бы только поправил: не промах, а скорее случайное, но сверхточное попадание в мишень. Убийство в Сараеве было не предлогом, а важнейшей причиной войны, ибо оно открыло сразу три двери в бездну. Устранило эрцгерцога Франца Фердинанда — самого миролюбивого австрийского политика, категорического противника военных авантюр. Автоматически привело к власти в Вене «партию войны», дав ей легитимный повод в самой жесткой форме потребовать от Сербии сатисфакции. И, наконец, внушило германскому кайзеру и его канцлеру Теобальду Бетман-Гольвегу мысль, что вся вина ложится на сербов, а если Россия вмешается — то войну легко можно будет представить как оборонительную и, стало быть, справедливую. Это было критически важным условием для того, чтобы «продать» ее социал-демократам, ведущей партии тогдашней Германии, чей призыв к забастовке теоретически мог сорвать мобилизацию.
Одновременно «партия войны» взяла верх и в Петербурге. Еще в самом начале Июльского кризиса германский посол граф Пурталес заметил:
Не общественное мнение толкало русское правительство ко враждебному выступлению против Австро-Венгрии. Скорее тут работала небольшая группа лиц, старавшаяся с самого начала обострить конфликт.
Той группой, которую один из современников назвал «злыми гениями войны», в 1920-х заинтересовался и Борис Шапошников, будущий маршал и сам участник Первой мировой. В своем капитальном труде «Мозг армии» он пишет:
Едва ли нужно доказывать, что различные Шиллинги, Базили, Трубецкие и тому подобные энергичные молодые люди, кстати сказать неответственные ни за что, сгоряча рубили лес, не думая о тех щепках, кои полетят на равнинах Европы. Стремление «играть роль», быть «участниками» великих событий мировой истории обуревало этих молодых людей. В былые времена «безумный» грек Герострат сжег храм Дианы. И нужно сказать, что роль таких «поджигателей» очень улыбалась чиновным дипломатам в расшитых золотом мундирах.
Боюсь, сегодня эти фамилии мало что скажут читателю, да и тогда директор канцелярии министра иностранных дел барон Маврикий Шиллинг и вице-директор Николай Базили были не самыми яркими звездами на бюрократическом небосклоне Петербурга. А между тем, инсайдеры отзывались о Шиллинге, как о человеке, который фактически больше руководит внешней политикой, чем сам министр Сергей Сазонов. Эти люди и подталкивали министра под руку.
Аналогичный «интимный кружок» существовал и в российском военном ведомстве. Он буквально за пару суток сумел обработать начальника Генштаба генерала Николая Янушкевича в нужном ключе, сделав его главным лоббистом проведения всеобщей мобилизации, после чего Германия и объявила войну России.
Я хорошо знал, что ни [военный министр] генерал [Владимир] Сухомлинов, ни генерал Янушкевич не были настроены воинственно, и тем более заражены германофобией, которой болели ещё у нас молодые офицеры, — пишет в мемуарах Сазонов, не замечая почему-то бревна в собственном глазу.
Такая же группа, которую так и называли — «молодые львы» (граф Иоган Форгач, граф Людвиг Александр Хойос, Александр Музулин фон Гомирье) сложилась вокруг главы австро-венгерского МИДа графа Леопольда фон Берхтольда. И когда в последний момент ему на стол легла телеграмма Бетман-Гольвега с призывом пойти на попятный, именно Форгач и Хойос заявили Берхтольду, что «ввиду настроения в армии и народе всякая приостановка начатых военных операций исключается». Нечего и говорить, что такие же «молодые львы» подбадривали своим рыком и берлинских десижн-мейкеров.
Это явление не специфически европейское. В Японии есть специальный термин гэкокудзё, которым в 1930-х именовали группу младших офицеров армии и флота, подталкивавших старших начальников к радикальным действиям, требуя агрессивной внешней политики. В этом смысле Пол Вулфовиц и его команда, ставшие главными идеологами вторжения в Ирак в 2003 году и превратившие его в поле боя на 15 лет (а остатки ИГИЛ там не выкорчеваны и до сих пор), являют собой образцовую американскую версию гэкокудзё.
Это и есть первый урок той мировой войны: когда вы читаете «Германия стремилась», «Россия хотела», «Австро-Венгрия думала», то не надо воспринимать это буквально. Решения принимал узкий круг конкретных людей, которых в каждой стране можно пересчитать по пальцам если не двух, то трех рук. И решения они принимали не из той экономической, военной, идеологической логики, которую им «подсказывают» историки, а исходя из своих представлений о реальности, которые с ней пересекались лишь по касательной.
Летом 1914 года в Вене, Берлине и Петербурге конкретные люди одновременно попали в классическую «ловушку Фукидида»: мы постепенно теряем преимущество перед потенциальным противником и поэтому обязаны атаковать; если уж войне суждено случиться, то лучше использовать так удачно подвернувшийся кризис. А дальше логика военных союзов быстро вовлекла в конфликт и две оставшиеся страны — Англию и Францию.
Европейскую цивилизацию обрушили отнюдь не объективные обстоятельства необоримой силы, а действия нескольких оставленных без «присмотра» персонажей, с энтузиазмом взявшихся порулить мировой историей в ручном режиме. Персонажей, о существовании которых мы порой даже не догадываемся. Увы, политические системы тогдашней России, Германии и Австро-Венгрии дали им такую возможность.
Безопаснее продолжать, чем прекратить
Первые два года мировой войны столицы ее участниц были полны если и не энтузиазма (тот испарился уже осенью 1914-го), то по крайней мере надежд. Генералы уверяли, что еще один рывок, еще одна операция — и обессиленный потерями враг рухнет. К концу 1916-го, когда в крови и грязи захлебнулись и германское наступление под Верденом, и англо-французское на Сомме, появилось понимание, что война окончательно зашла в тупик.
Именно в этот момент появились несколько миротворческих инициатив, самой серьезной из которых стало обращение президента США Вудро Вильсона к воюющим державам: изложить условия, на которых они готовы пойти на мир, чтобы можно было начать посреднические переговоры. Но в этом-то и была загвоздка — в условиях.
С американского континента все выглядело предельно ясно — стороны должны признать взаимные ошибки и вернуться к статусу-кво. Себастьян Хаффнер писал:
Исходя из фактов, такой мир, основанный на статус-кво, был бы для Германии подарком небес. Но… Германия не смотрела на факты, а смотрела на свои собственные желания и цели. У такого состояния или психического заболевания есть название: потеря чувства реальности.
Впрочем, это относится не только к Германии. Британский историк Алан Тейлор показал, как тупик на фронте, который, по идее, должен был способствовать компромиссу, на самом деле работал против него. В конце концов, что такое статус-кво? Немцы приняли за точку отсчета начертание линии фронта и совершенно не понимали, почему они должны освобождать захваченные территории Бельгии, Франции и России без какой-либо компенсации. Но для союзников, считавших себя жертвами неспровоцированной агрессии со стороны Германии, даже довоенные границы не выглядели разумным компромиссом.
По сути, обе стороны боролись за одну и ту же цель: выстроить такую систему безопасности, которая гарантировала бы невозможность новой мировой войны. С точки зрения немцев, этого можно было достичь, только создавши несколько буферных зон (разумеется, под немецким протекторатом) между Германией и «зажавшей ее в тиски» Антантой.
С точки зрения союзников, лучше гарантией от новой мировой войны было бы жесткое наказание нападавшего, который должен был понести территориальные и финансовые потери, дабы усвоить, что агрессия не окупается. Если же просто вернуться к статус-кво (не говоря уже об уступках немцам каких-либо территорий), то кто, вопрошали в Лондоне и Париже, поручится, что Германия через несколько лет, учтя ошибки кампании 1914 года, не возобновит войну, чтобы добить Францию?
После двух лет мировой бойни простое возвращение к границам августа 1914 года было совершенно невозможно и по внутриполитическим причинам. Чтобы вести войну, необходимо было возбудить общественное мнение до состояния кипения, и теперь это пар самостоятельно вращал колеса военной машины. Несомненно, если бы осенью 1916 года солдатам в окопах сообщили о мире, то их первой реакцией был бы единодушный вздох облегчения. Но через день у народов неизбежно возник бы вопрос: а за что мы два года умирали на фронте и страдали в тылу? Пропаганда накачивала людей обещаниями, что эта война положит конец всем войнам, но как возвращение к статусу-кво могло служить тому гарантией?
При взгляде со стороны военный тупик должен был вынудить стороны к компромиссу. Но изнутри все виделось наоборот. Если решительная победа невозможна для одной стороны, то она точно так же невозможна и для другой. Зачем нам идти на компромисс, если нас не могут победить? И поскольку, пишет Тейлор, «мир без победы ставил еще более страшные проблемы, чем бесконечная война», политически безопаснее казалось продолжать воевать.
Тем более что к концу 1916 года выяснилось, что у военных по обе стороны фронта припасено еще по одному козырю. Германские адмиралы обещали за пять месяцев задушить Англию голодом, если им, вопреки морскому праву, будет позволено будет вести неограниченную подводную войну. А восходящая звезда французской армии генерал Нивель уверял, что раскрыл метод прорыва фронта, и в следующем году с его помощью погонит гуннов прямиком к Берлину.
Таков второй урок Первой мировой: те самые люди, кто так смело начал войну, боялись последствий ее окончания больше, чем последствий ее продолжения. А это значит, что вовлеченным в нее народам предстояло испить горькую чашу до дна.
О дивный послевоенный мир!
Впоследствии на Западе многие вспоминали ту осень и сокрушались об упущенном шансе, представляя, каким был бы «мир 1916 года». С Россией без большевиков, с Германией без Гитлера, с еще не выжавшей свой демографический ресурс до последней капли Францией...
Да, этот мир оставался бы суровым и небезопасным, но какова альтернатива? Она хорошо известна. Российская элита расплатилась за войну по высшей ставке, германский истеблишмент сохранил хотя бы жизнь, но не власть. Заодно по их счетам заплатили и миллионы людей, никакого отношения к принятию решений не имевшие.
Но и формальные победители на следующий день после триумфа обнаружили, что новая Европа для них не стала ни безопаснее, ни лучше довоенной. Британия из мирового финансового колосса превратилась в заурядную страну, обремененную долгами и колониальной империей, пошедшей вразнос без того поколения британской элиты, что полегло на полях Фландрии. Патриотический гимн «Правь, Британия, морями…» теперь звучал, как насмешка. Пол Джонсон пишет, что к началу 1930-х Великобритания на общем фоне стала более слабой морской державой, чем когда-либо с времен Карла II, при котором голландцы жгли английские корабли прямо в устье Темзы.
Что до Франции, то и она скоро убедилась, что великой европейской державой ее делал союз с Российской империей, автоматически «уполовинивавший» силы Германии на западном направлении. Чехословакия и Польша оказались недостаточной ему заменой, а сталинский СССР, не скрывавший желания продвинуть коммунизм в Европу, — сомнительной и нежеланной. Войну французы из последних сил выиграли, но по ту сторону Рейна по прежнему лежала 65-милионная Германия, жаждущая реванша и ждущая своего часа.
Неудивительно, что, глядя на все это, французский маршал Фердинанд Фош произнес свою знаменитую фразу:
Это не мир, а перемирие на 20 лет.
Его пророчество исполнилось с поразительной точностью — от 11 ноября 1918 года до 1 сентября 1939-го прошло 20 лет, 9 месяцев и 21 день.
Константин Гайворонский
военный историк
moscowtimes.