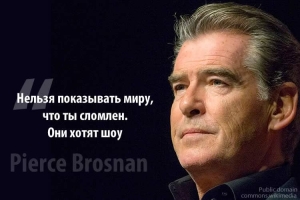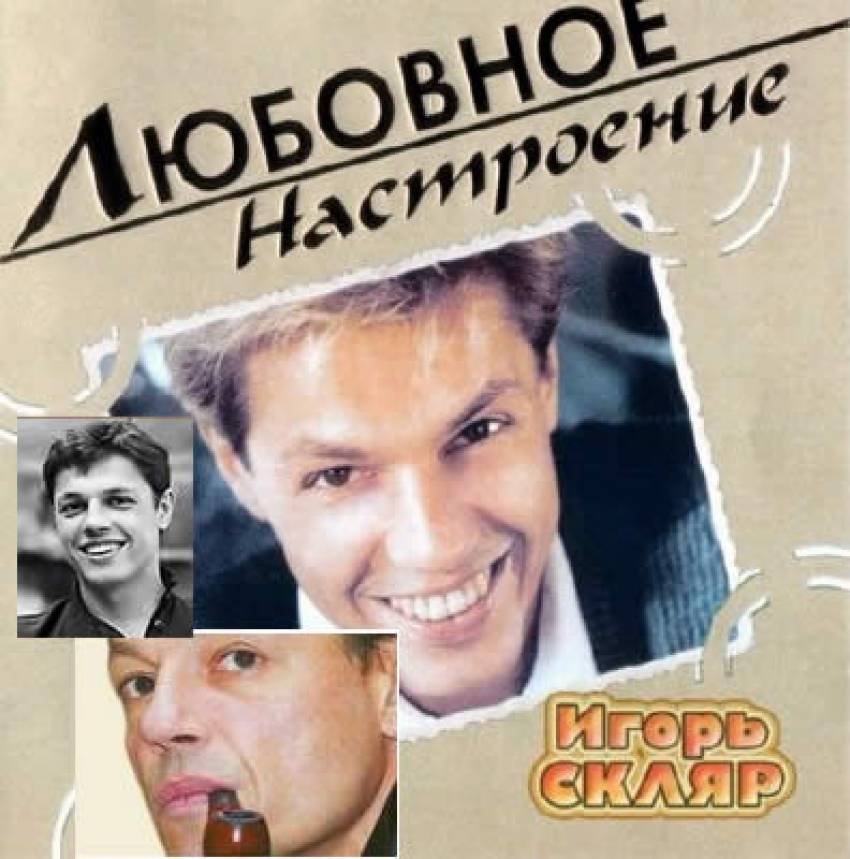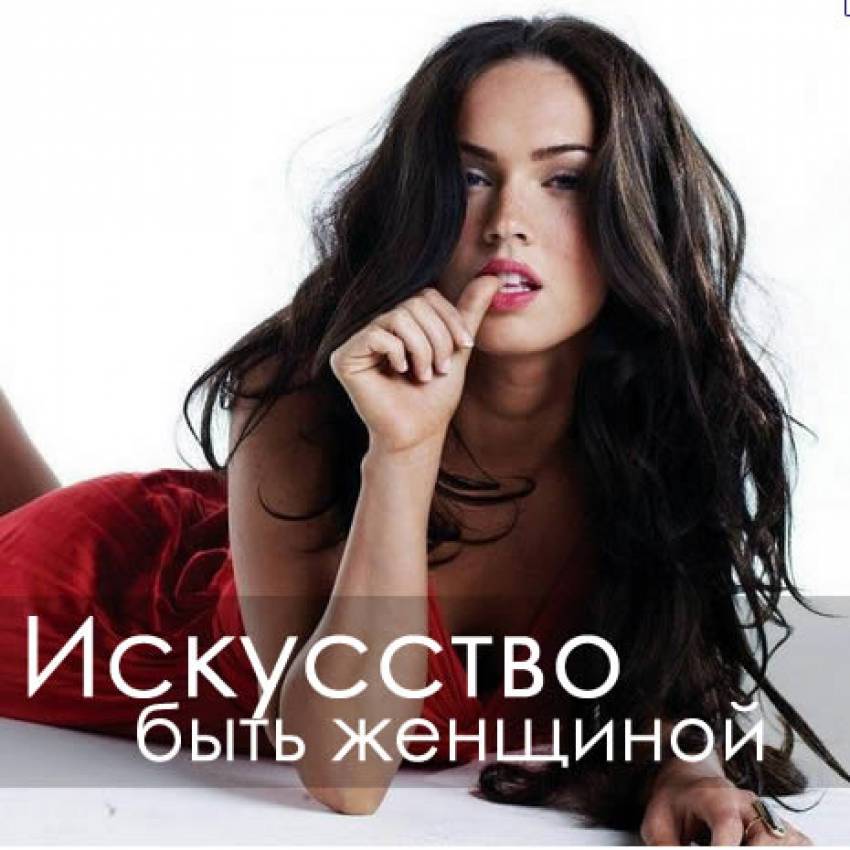Он проплывает километр за 24 минуты. Может сделать колесо и, возможно, шпагат. Легкий на подъем, веселый, подтянутый. Опять же — жена на 30 лет моложе. 1 января под бой курантов отметил 70 лет. Но не молодится и позволяет себе роскошь, для многих уже непозволительную, — оставаться самим собой без оглядки на толпу и время на дворе, говорить правду без страха показаться хуже, чем о нем подумают. Просто он Шакуров. Просто Сережа.
Когда какую-то планку установишь для себя, понятную разумом, то все как-то само собой успокаивается. Потому что много лет внутри меня идет борьба внутреннего темперамента, переходящего во внешний, с головой. А голова говорит: «Все, хватит, успокойся, можно уже не ломать копья, не носиться на помеле по странам и весям» (я имею в виду кино, театр, концерты). У нас это стало так с перебором, что начинаешь в этом хаосе к себе не очень хорошо относиться.

Сережа, ты научился отказываться от выгодных и соблазнительных предложений?
— Я только и делаю, что отказываюсь — от сериалов, от халтуры в общем. Отказываюсь от интервью во всевозможных изданиях — они мне просто не нужны. Ты знаешь, о чем я говорю, тем более что несколько лет не выписываю газет и журналов. И не читаю. Более того, считаю, что это мешает людям. К примеру, художник Олег Целков — вот он всю жизнь пишет своих странных людей, которых, к сожалению, многие не понимают, а ему на это наплевать. Сидит у себя в Париже: две бутылки красного вина в день и — писанина.Кстати, ты с ним поддерживаешь отношения? Или с его женой Антониной, которая до Целкова была женой твоего режиссера и друга Леонида Хейфица?
— Ну поскольку я часто бываю во Франции, а Ольгу, их дочь, еще носил на руках, то общаюсь, конечно. Когда бываю в Париже, обязательно звоню, мы встречаемся и куролесим немножечко. Или такие композиторы, как Артемьев или Володя Дашкевич, — уважаю: люди живут своим миром. К этому приходишь, к сожалению, поздновато, я, например, мог раньше остановиться, образумиться, лет 20 назад.Что же помешало?
— Вот неуемность, всего хотелось. Теперь я к себе категоричен и строг: на сегодняшний день у меня две антрепризы и два спектакля на стационаре, который я уважаю и люблю. А больше мне и не надо. Но поскольку один спектакль — «Иванов» — состарился (идет больше 15 лет), то мы с Генриеттой Наумовной (Яновская, главный режиссер Московского ТЮЗа. — М.Р.) нашли пьесу. Но нужна партнерша, а ее нет, она должна быть красивая, лет от 30 до 40.... И надо, чтобы была известная, — на одном моем имени мы не проскочим.Прости, фамилия Шакуров больше не работает? Или ты к себе слишком критичен?
— Слушай, я все это прекрасно знаю, все изучил. Если пьеса на двух человек, то должно быть две звезды. Я знаю, что на меня одного ходить будут, но мне нужны полные залы, аншлаг! Даже наши эстрадники поняли, что петь вдвоем выгоднее: Розенбаум и Лепс, например... А эти ребята хорошо соображают.70. Тебя эта цифра пугает?
— Да нет, я этого не понимаю. В молодости 70-летних я видел какими-то старыми, горбатыми, хромыми, волосы из ушей торчат, покашливают, попукивают... А мне сейчас самому семьдесят, и я ничего понять не могу: вроде километр за 24 минуты проплываю, колесо могу сделать. Может, это какая-то игра? Условность? А может, мне и не 70? И вроде со здоровьем тьфу-тьфу пока... И сыну семь лет. Чудеса в решете. Марат не знает, что мне 70. Он думает, что мне 46 или даже 43. Я даже не знаю, как ему теперь сказать. А знаешь, кто ему имя придумал? Ксюшка Ярмольник. Как-то она спрашивает: «Как сына-то назвали?» — «Да никак, три месяца парень без имени живет». — «Назовите Маратом: ты — татарин, Катя — армянка». Так и получилось.Достигнув зрелого, полного расцвета и сил 46-летнего возраста, ответь, что ты думаешь о жизни?
— Если говорить о жизни творческого человека, то могу сказать: к сожалению, почти за пятьдесят лет, что я на сцене, ничего не изменилось. Как были артисты нищие, так ими и остались. И это меня сильно печалит.Это говоришь ты, хорошо зарабатывающий, востребованный актер?
— Я — это я, но в своем большинстве это нищие люди. Смотри, у меня в кино больше 100 ролей, и у моих товарищей — больше 100 великолепных ролей. И что? Давай по-другому рассуждать: почему у чиновников великолепные виллы? Все Подмосковье в виллах. И недвижимость за рубежом покупают. Откуда? Почему? Воровать артисты не умеют — у нас такая работа, и мы так устроены — не воруем. Вот про что я говорю — ничего не изменилось. На сегодняшний день — катастрофа в стране. Мне себя не жалко: я прожил достойную жизнь. Но в этом плане жизнь чудовищная — и никто это остановить не может. Но... остановить может только личный пример. Хозяин должен сказать: «Мне ничего не надо». И чтобы все это видели.Сережа, ты никогда так жестко, так открыто не высказывался, держался всегда в стороне.
— Ты мне задала вопрос, а таких вопросов мне просто не задавали — вот и все. Я не из нытиков, я абсолютно позитивный парень, люблю радоваться жизни и радуюсь, и умею это делать, несмотря ни на что. Я никому не завидую — у меня это чувство напрочь отсутствует. И мне не нужно больше того, что мне нужно. Но, глядя чуть со стороны, я понимаю, что ни хрена в стране не изменилось, только все хуже и хуже становится. Кто ворует — живет все лучше, кто не ворует — живет все хуже. Слесарь у станка или мужик, который закручивает гайки у космических кораблей, чертежник — они ничего сделать не могут. А эти сволочи, которые распределяют, живут дай бог... чего там говорить?Знаешь, глупо говорить — у меня не сложилось. Нет, все сложилось. Но сложилось, как это ни странно, случайно.
И в профессии?
— Абсолютно. В самодеятельности валял дурака, чтобы не ходить в школу, в театральный попал — случай, потому что за руку привели. Ладно, закончил. В Театр на Малой Бронной к Гончарову попал — случай, а тут — повестка в армию. Бронная на гастролях в Риге, выручить некому, и вдруг из Театра армии звонят: «Не хотите ли у нас служить?» Конечно, там такой же театр. Раскрутилась неимоверная дружба с Леонидом Хейфицем, которая чудовищно закончилась. Вместе ушли: его уволили, я пошел за ним.Но у тебя был выбор — не уходить. Артист — лицо подчиненное.
— Вообще непонятно, почему я это сделал. Мы собираемся на репетицию «Любовь Яровая» — Леньки нет, и какая-то в театре идет шебуршня. Я набираю его телефон: «Лень, а почему ты не на репетиции?» — «А меня из театра попросили». — «Как попросили? Кто?» Короче, вызвал его начальник театра и предложил написать заявление об уходе. Я говорю: «Хорошо, сейчас приеду». Захожу в репертуарную контору, пишу заявление, захожу в кабинет начальника театра и, ничего не говоря, о стол хлоп бумагу и ушел. Позвонил Леньке, сказал, а он: «Ты что, сбрендил?» — «Все нормально». Взял две бутылки водки, поехал к нему. Я же не отдавал себе тогда отчета: а у меня маленький ребенок, жена — актриса в ТЮЗе, да и кранты вообще. А Леня заявление подал только недели через две, точно не помню. Вот что это такое было? Зато я себя за это уважаю.Что ты думаешь о своем деле?
— О профессии? Ну чуть-чуть, конечно, измельчалась она. Не хватает педагогов. Пошел навал конвейерной профессии. А тот объем сериалов, который сейчас есть, требует массы людей, и в частности исполнителей. И берут неготовых ребят, которые ничего не умеют, и фигачат их туда. Собственно, большого ума не нужно, чтобы слова выучить, а потом сказать, — репетиций практически нет. В театре пока получше, никому не хочется выпустить плохой спектакль, все стараются. Театр — это своя отдельная ячейка, не телевизионная.Тем не менее ты в свое время не остался в репертуарном театре. Дело в тебе или в театре как таковом?
— Дело во мне. Просто не очень люблю в коллективе находиться, причем давно уже. Я насиделся в нем — сначала в Театре Станиславского, потом в Советской Армии. Я докатился до того, что в одном из них стал председателем профкома. В буквальном смысле докатился: был в Театре Станиславского артист Леня Сатановский, муж Майи Менглет, и когда они собрались уезжать в Австралию, Ленька сказал: «Слушай, Каюмыч, возьми, кроме тебя, здесь некому. Ты самый авторитетный». Я три года промучился и понял, что все это не мое, полная глупость, только зря время потратил. Тем более что для меня театр стал неинтересен: принимать постановки, соглашаться с главным режиссером или не соглашаться, советовать ему — мне так все это надоело... И в этот мой критический момент подвернулась пьеса «Я стою у ресторана» Радзинского в Театре Маяковского, и я туда начал бегать играть спектакль. И за эти пять лет, что мы его играли, мне пришла идея освободиться от репертуарного театра, и с тех пор я — вне театра.Редкий артист, достигший твоего возраста, не мечтает возглавить театр. А почему нет? Опыт у тебя колоссальный, авторитет серьезный. Если бы сейчас сказали: «Сергей Каюмович, вот театр», взял бы?
— Никогда! Честно. Я это не умею. Во мне есть одна не очень хорошая черта — диктаторская, и я ее в себе давлю. Если мне что-то не нравится, буду приставать до потери пульса, а это нехорошо для руководителя. Я не умею идти на компромисс с самим собой.Моя самая любимая твоя роль — самая маленькая в нашем кино. Механик Гаврилов из волшебно-замечательной картины Петра Тодоровского «Любимая женщина механика Гаврилова».
— Да, это серьезная роль, она мне тяжело далась. Ты же не знаешь, что было написано в сценарии у Бодрова-старшего. Там было так — к фотоателье подъезжает «скорая помощь», оттуда на инвалидной коляске вывозят Гаврилова с загипсованной ногой, рукой, перевязанной башкой, и санитары везут его к ателье, где стоит Рита (Гурченко). И все, конец. Мне это не понравилось, но я согласился. Группа улетела в Одессу, и через два месяца мне позвонили, что будем снимать финал. Решил, что поговорю с режиссером, может, что-то придумаем. Но мне нужна поддержка. Позвонил Люсе, и выяснилось, что ей тоже финал не нравится, но что делать — оба не знаем. Когда я зацикливаюсь на своей интуиции, я должен найти выход — это как в шахматах: ты в патовой ситуации и надо найти ход, который тебя выведет из проигрыша.
Одним словом — утро. Собираемся на съемку. Троллейбусный круг, толпа, оцепление. Петя приехал. «Петь, мне финал не очень». — «Как не очень, ты же согласился». — «Ну мне, Шакурову, он не очень подходит». А уже «скорая» стоит, милиция, люди бегают за автографами. Я прошу его что-то придумать — и, короче, я начал сам себя заводить. А у актеров, и у меня тоже, есть такое качество: когда сам себя заводишь, то лава, что тебя не устраивала, она выплескивается. Костюмерша дает костюм — замечательно сшитую тройку, и я даже не мозгами понимаю, что если начнут снимать, я окажусь в ж... Я накопил негатив, а позитива нет.
И рассказываю тебе, как было: я срываю свой пиджак, ногой на рукав наступил, бац, оторвал. «Петь, — говорю Тодоровскому, — давай уберем „скорую“, пусть меня на „воронке“ привезут». — «Где я милицию тебе возьму, у меня только санитары». — «Да я возьму милиционеров, вон они в оцеплении стоят, отрепетирую, слов же нет». Короче, через двадцать минут приехал «газик», я взял настоящих милиционеров, начал с ними репетировать, а они боятся хватать меня. «Держи крепче, сволочь, — кричу ему, — сейчас снимать будем». Мотор — и бац, сняли. А дальше Петя придумал мой ход к окну, ее реакцию, и все пошло. И титры... Все. Случай.
А Сирано де Бержерак? Боря Морозов гениальный ход придумал взять на Сирано Жору Буркова — такого странного, с дислексией... А потом Борька звонит: «Каюмыч, Жорка физически не тянет, там ведь драться надо». Я позвонил Жоре, и он: «Да, Каюмыч, отказываюсь»...