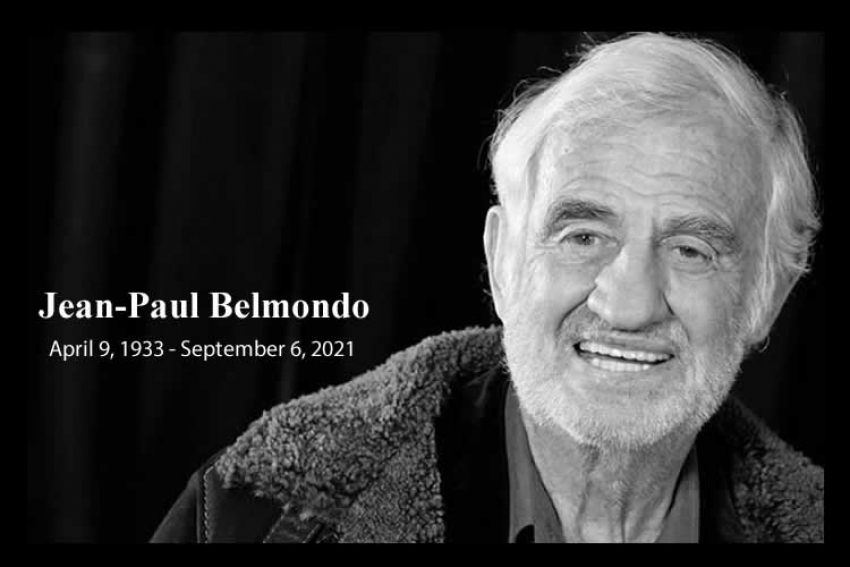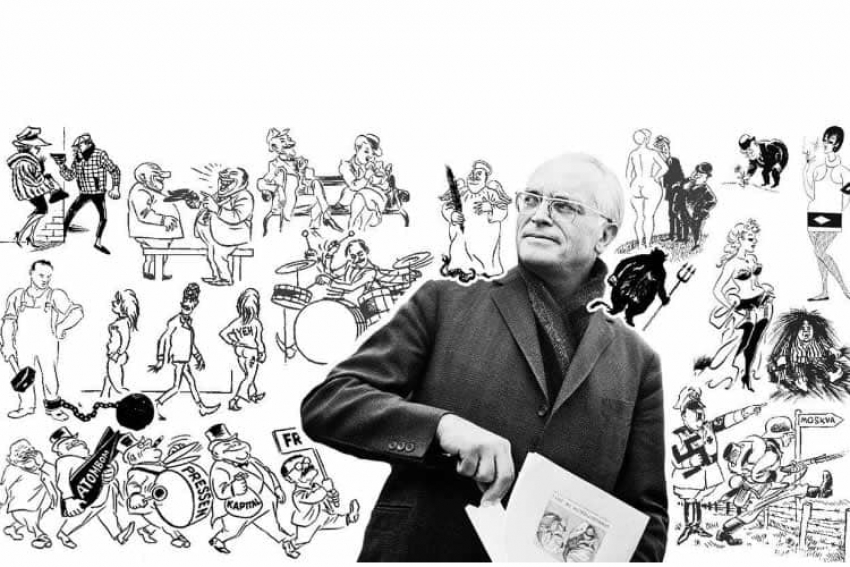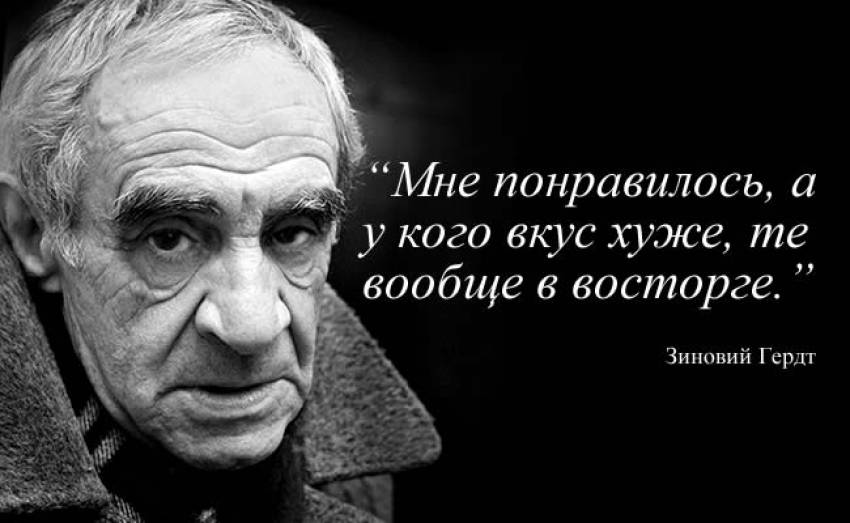Дед мой по матери был купцом первой гильдии — торговал то ли зерном, то ли лесом, жил в Царицыне, но в одночасье был изгнан из города и разорился. Есть две истории на этот счет. Первая о том, что он за слово «жид» ударил по лицу какого-то важного городского чиновника. А вторая, что дед, жуткий бабник, дружил с губернатором и одновременно ухлестывал за его женой, причем не без успеха. Разорившись, дед продолжал жить очень весело.
О своих корнях, как абсолютное большинство советских людей, я знаю крайне мало — тогда не принято было интересоваться генеалогией. Мы жили как Иваны, не помнящие родства. Хотя это сочетание — Иван, не помнящий деда Абрама — довольно странное.
Папа — инженер-экономист, на всю жизнь испуганный 37-м годом, очень боялся моих гуманитарных замашек, поэтому настоял, чтобы я получил полезную профессию и стал инженером. Мама окончила консерваторию и юридический. Она всю жизнь посвятила семье и, кажется мне, прожила не свою судьбу.
В каждой семье должен быть один приличный и умный человек. У нас это мой старший брат Давид. Он внесен в Книгу рекордов Гиннеса за то, что пробурил самую глубокую в мире скважину на Кольском полуострове. Он отдал этому делу 35 лет жизни и все здоровье. Если к этому добавить, что все это делалось на советском оборудовании, то он совершил подлинный геологический подвиг.
Меня, тихого мальчика из интеллигентной еврейской семьи, все мое детство и юность часто и крепко били сверстники. И я этим людям очень признателен — благодаря этому я вырос здоровым мужиком и знаю, что побои — это не страшно. Потом, когда сел в тюрьму, когда был в лагере и в ссылке, я совершенно спокойно относился к ситуации. Запаха страха, который точно существует, от меня никогда не исходило.
Из стандартных вопросов, которые мне задают журналисты: почему я пишу слово «говно» через «а». Это мой вклад в русский язык.
Бабушка мне часто повторяла: «Гаринька, каждое твое слово — лишнее».
Приятно приплести к своей биографии звучное имя. Так, Петр Рутенберг, один из основателей государства Израиль, а до этого эсер-боевик, был моим двоюродным дедушкой. Именно он организовал исторический разговор с попом Гапоном, которого потом повесили рабочие и о котором написано в каждом учебнике по истории. Говорят, он любил повторять: только не забывайте мое прошлое. В его устах это звучало угрожающе.
Все мое сознательное детство пришлось на послевоенные годы. Это было чрезвычайно голодное время. Я до сих пор помню 4 тарелочки, на которых лежали 4 маленькие порции хлеба — ежедневный паек.
Молодость должна быть бурной. Если это не так, человека просто жаль.
В отношении женщин в юности я был практически всеяден. Это отчетливо видно по стишкам. Главным критерием красоты являлась худоба, а идеалом — Фанера Милосская. В те годы я напоминал себе бычка, который вырвался на свободу из загона. Мне как-то написали записку: «Игорь Миронович, у вас действительно было много женщин или это только на бумаге?» Могу сказать, это еще и воображение.
Первые любови у меня были все несчастные. В девятом классе влюбился в девочку с красивым именем Стэлла. А она отдала предпочтение студенту педагогического института. Как я его ненавидел! Потом я полюбил однокурсницу. Но на ней женился мой товарищ. Я страдал. Но прошло пять лет, и я понял — какое это счастье, что на ней женился он, а не я! У нас, старичков, очень плохо с памятью. Особенно когда мы не хотим вспоминать.
Когда я переживал личную трагедию, становился невыносим: жаловался друзьям, курил одну сигарету за другой, крепко выпивал, писал стишки. Эти способы помогают и сейчас. Когда же проверенные способы не действуют, просто терплю, как ежик, на которого наступил слон.
С Татой нас познакомила общая приятельница, и очень быстро все сложилось просто замечательно. Поэтому у нас между де-факто, когда это произошло, и де-юре, когда мы расписались, промежуток всего год. Жена замечательно говорит: де-факто — это твой праздник, а де-юре — мой.
Всегда полагал, что женитьба — это чудовищное ограничение свободы. И не ошибся. Но мы все когда-то лезем в добровольное рабство. Когда желание сильно, мужчина слепнет.
Я нашел причину удачного брака: год рождения моей жены это размер моей обуви, а год рождения мой — это размер обуви Тани. 43 и 36.
На собственную свадьбу я опоздал на 40 минут — за три дня до этого события был в командировке, где у меня украли паспорт. Я решил попросить помощи у начальника отделения милиции, объяснил ему, в чем дело, и получил совет подарить паспортистке коробку конфет, и она сделает все, что нужно. Видимо, коробка была гораздо меньше, чем ожидания дамы, и она выразила свое недовольство вот каким образом — имя мое, фамилия и все сведения были написаны очень маленькими буковками, зато слово «еврей» — очень крупно. Паспорт этот много лет был предметом моей гордости.
Детей я не воспитывал. Я просто приходил и честно забирал их из роддома. Всем остальным занималась жена.
Малышка Танька была окружена невероятной любовью. Гуляла она в картонном ящике из-под радиоприемника, который мы выставляли на подоконник первого этажа. Однажды старушка-стоматолог, которая очень любила нашу семью, не выдержала и решила вмешаться: «Как же вы не боитесь так класть Таню, её ведь могут украсть!» Я её успокоил: «Вера Абрамовна, лишь бы вторую не подложили!» Старушка перестала со мной здороваться.
В Москве жил замечательный человек — Леонид Ефимович Пинский, он был литературовед, филолог, читал лекции в московском университете. В каком-то смысле он был моим Державиным. Однажды он увидел подборку моих стихов, стал их хвалить. Длилось это блаженство минуты 2–3. Я потерял бдительность, расслабился и решил поделиться радостью: «Леонид Ефимович, а у меня еще вчера сын родился». Он положил стишки, обнял меня и сказал: «Вот это настоящее бессмертие, а не то г...о, которое вы пишете».
О наших детей вдребезги разбивались самые различные педагогические приемы — Таня и Эмиль очень быстро отучили меня давать им советы.
Я не боюсь абсолютно ничего и никого, кроме слез моей жены.
Однажды жена поручила мне следить из окна за гуляющей во дворе Танькой, а сама пошла в музей на работу. Позвонив, она уточнила, как там дочь. Я заверил ее, что каждую минуту выглядываю в окно — Танька играет в песочнице в своем красном пальтишке. Жена воскликнула в ужасе: «Таня свое красное пальтишко износила уже год назад, она гуляет в голубом! Я срочно выезжаю!»
Мне повезло, что я набрел на идею четверостиший. До этого я писал длинные и печальные стихи. Однажды я их все утопил в помойном ведре, о чем не жалею.
Перед арестом я вел себя как полный идиот, напрочь забывший все предосторожности. Я всей своей тогдашней жизнью был обречен на тюрьму.
13 августа 1979 года меня вызвали повесткой как свидетеля, вернулся я ровно через пять лет. С тех пор каждый год 13 августа устраиваю дома огромную пьянку для друзей.
Моя теща, писательница Лидия Либединская, была совершенно необыкновенным человеком. Мы с ней очень дружили и любили друг друга. Каждый год 7 января она устраивала в своей квартире детскую елку, на которую приходило человек 20 детей и человек 30 родителей — взрослым елка была еще интереснее, чем детям. До сих пор помню случай, когда приехал папа без ребенка и сказал: мальчика наказали, но я этот праздник пропустить не мог. Дедом Морозом регулярно был я, а когда меня посадили, по приказу тещи этот персонаж был отменен: детям дарили подарки и говорили, что Дед Мороз сейчас далеко, в холодных местах, он шлет приветы, подарки и скоро появится.
После пересыльной тюрьмы Челябинска я оказался с зэком, много лет уже отсидевшим. Он меня предупредил: Если ты не перестанешь говорить «спасибо» и «пожалуйста», то ты просто до лагеря не доедешь. Я тогда засмеялся, а потом отчетливо понял — началась совершенно новая жизнь.
Тюрьмы отличаются друг от друга приблизительно так же, как семьи, в которые ходишь в гости: атмосферой своей, кормежкой, всем набором ощущений, что испытываешь, в них находясь. Навсегда я запомню тюрьму в Загорске, расположенную в здании бывшего женского монастыря и поражавшую могучей кладкой стен, сводчатыми потолками и страшным режимом.
Как только меня сослали в Сибирь, жена с сыном тут же ко мне приехали. На вокзале семилетний Милька меня обнял, словно мы только вчера расстались и сказал: «Жалко, папа, что тебя в тюрьму посадили, по телевизору недавно шел отличный детектив».
Лагерное начальство вольным докторам не доверяло, лечилось в лагерных лазаретах, где сидели очень известные врачи.
Моя пожизненная гордость — сооружение на нашем огороде в Сибири нового сортира. Более значительного в этой жизни я уже не строил ничего.
Советская власть сделала нам замечательный подарок. Ей надоели мои стишки, и в 1988 году нас вызвали в ОВИР, где чиновница нам сказала прекрасные слова: «Министерство внутренних дел приняло решение о вашем выезде в Израиль».
Когда мы жили в Сибири, мой товарищ привез мне в подарок с Чукотки моржовый хер весьма внушительных размеров. Сначала я хотел его повесить в спальне, но Тата справедливо заметила, что делать этого не нужно — у меня появится комплекс неполноценности. И мы украсили им кухню. Перед отъездом в Израиль я, задумчиво посмотрев на хер, спросил жену: «Татик, как ты думаешь, а в Израиль нам его позволят вывезти?» На что услышал: «Да ты хотя бы свой вывези»! Очередность мы соблюли. Девушка на таможне заявила, что хер моржа — достояние культуры. Я ей говорю: «Ласточка, это же не по части культуры». Она покраснела, но была непреклонна. Пришлось спрятать «достояние» между больших палок копченой колбасы.
Я уехал в Израиль, чтобы прожить вторую жизнь.
Я несвободен от огромного количества любовей: к семье, к друзьям, к книгам, к курению, к выпивке. В моем случае это все разновидности наркотиков. Впрочем, как и графомания. У меня непреодолимая любовь к покрыванию бумаги значками.
Во всей своей жизни я — главное действующее лицо.
В юности, когда я начал печататься в журнале «Знание — сила», страстно хотел стать писателем с большой буквы «П». Но, к счастью, все быстро прошло.
Однажды мне подарили большую старинную монету 1836 года. Я удивлялся ее величине, а потом понял — она юбилейная, так как выпущена в честь столетия, которое оставалось до дня моего рождения...
Вера в жизнь после смерти — одна из иллюзий. Хорошо, если бы это было, но у меня нет никаких естественнонаучных оснований, чтобы так думать. Мне кажется, это все придумано человеком, чтобы не терзаться страхами, которые сопутствуют нам всю жизнь.
Память — это дикого размера мусорная куча.
Мне есть чем похвалиться — я запросто достаю языком до кончика носа.
На «блошиных рынках» разных стран, где торгуют всяким мусором, я нахожу предметы моей страсти — фигурки из дерева, металла, керамики, колокольчики, кораблики, чайники, кадильницы. Выбираю спонтанно — вижу какую-то мелочь и понимаю: я хочу с ней жить.
Жить бывает очень тяжко, поэтому в себе ценю беспечность.
В старости я еще очень многое могу, но уже почти ничего не хочу — вот первый несомненный плюс.
Кто-то замечательно заметил однажды: желудок — это орган наслаждения, который изменяет нам последним. На склоне лет у каждого то лицо, которое он заслужил.
Спасая писательницу Дину Рубину от вредного для её легких табачного дыма, я говорю на ушко желающему покурить: Дина от дыма моментально беременеет. Если кто-то все же машинально закуривает, то быстро спохватывается и гасит сигарету. А лицо у него такое становится, как будто он уже подсчитывает алименты.
Я плаксив и сентиментален. Смотрел «Графа Монте-Кристо» восемь раз, из которых пять последних раз — в надежде, что уже не зарыдаю. Обычно чем сентиментальнее и пошлее кинофильм, тем быстрее у меня намокают глаза.
Моя любовь к ярким и коротким жизненным историям довела меня до собирания эпитафий. Лаконичные надписи на могилах убеждают меня в том, что все мы на самом деле — персонажи анекдотов для кого-то, наблюдающего нас со стороны.
Печалиться по поводу количества прожитых лет довольно глупо — если эти годы перевести на деньги, то получится смехотворно мало.
Водку пил я однажды с Юрием Гагариным. До сих пор перед глазами стоит этот несчастный, быстро спившийся, обреченный, как подопытные кролики, но уцелевший в космосе и полностью сломавшийся от славы человек.
Мы бессильны перед временем, в котором живем, и если появляется вдруг в истории Ленин, Сталин или Гитлер, это означает, что созрело массовое сознание для его триумфа. И тогда с отдельным человеком можно сделать что угодно.
К людям я хорошо отношусь. Особенно когда вижу только тех, кого хочу.
Судьбе надо помогать, особенно на перекрестках.
Гриша Горин говорил: смерть боится, когда над ней смеются.
Абрам Хайям — так меня назвал покойный драматург Алексей Файко, и я ему за это очень благодарен.
Чуть-чуть приврать — не грех, это весьма полезно для душевного здоровья.
Согласен с древним греком, который сказал: старость — это убыль одушевленности.
У любого мелкого благородства есть оборотная сторона — самому себе становится приятно. Большинство добрых дел совершаются из этого побуждения.
Фляжку с виски я всегда вожу с собой.
Жена уверена, что мне мешает жить курение. А я уверен, что помогает.
В воздухе сегодняшней российской жизни бурлят всего два мотива — выжить и быстрее разбогатеть (при этом выжив).
Однажды был в гостях у коллекционера камней. Я равнодушно смотрел на его собрание минералов, пока он не сунул мне в руку черный кристалл размером с куриное яйцо: «Вам это будет интересно, это осколок накипи внутри печной трубы. Мне его привезли из Освенцима». Я долго не мог выпустить из рук этот кошмарный сгусток.
Зло из памяти уходит, словно шлаки.
К одному писателю пришел маляр, чтобы оговорить детали ремонта. Увидел книжные шкафы и сказал: я уже давно заметил — если в доме много книг, то люди там живут хорошие. Уточнив подробности ремонта, он взял большой аванс и не вернулся.
Вкус и совесть очень сужают круг различных удовольствий.
Беспорядочное чтение похоже на случайные постельные связи — тоже ничего не остается в памяти. Однако если уж что-то остается, то врезается прочно и надолго.
Мужчин соблазнить легко, нужна только смекалка в поисках отмычки к сердцу. Рассказывали мне о мужике, который в женщинах ценил грамотность. Он говорил: «Ты понимаешь, мы выпили вина, она готова лечь в постель, а тут я даю ей бумагу и карандаш и прошу написать слово „фейерверк“. Если не напишет правильно, все желание тут же исчезает».
Мой приятель работал в лаборатории, занимавшейся противоядиями. Однажды я увидел, как он скармливал змеям живых мышей. Сначала он мышку бил о каменный пол, и только потом кидал змеям. Я отошел подальше, но все равно слышал: шмяк, шмяк. Потом он мне объяснил — это акт милосердия: он таким образом мышей от мучений спасает. Я ушел потрясенный. Мне стало ясно — творец довольно часто поступает с нами так же, но мы этого не понимаем.
После концерта заново пересматриваю все записки. Похвала особенно приятна: «Мне кажется, что писатель — это не профессия, а ваша половая ориентация».
Безалаберным, беспечным и легкомысленным я был всегда. Я никому не рекомендую такой образ жизни, но к 70 годам убедился, что именно так нужно жить. Только разгильдяи и шуты гороховые составляют радость человечества.